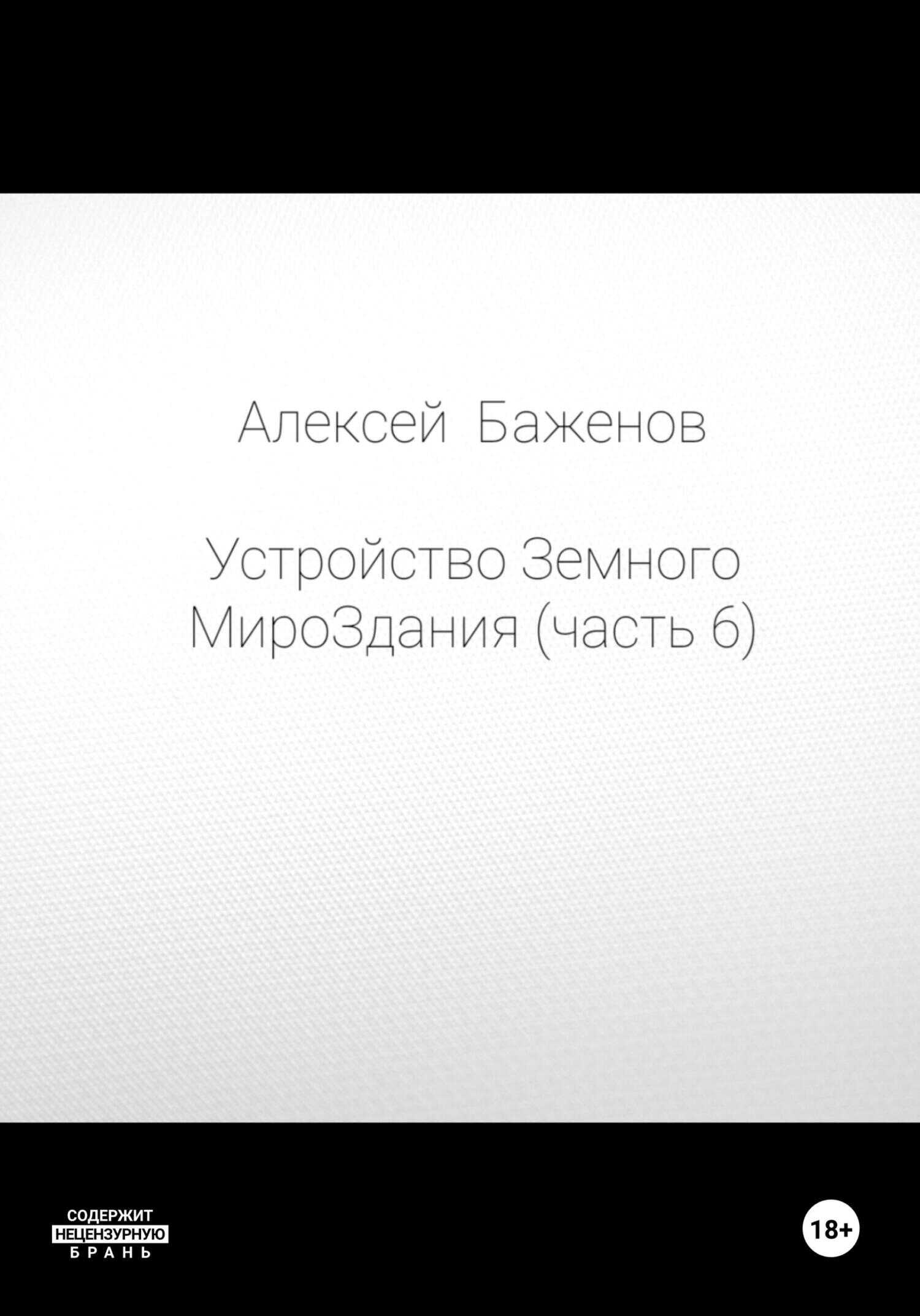Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во всяком случае она, вероятно, на много лет пережила маленькую Наденьку Берг, которую когда-то усыпила одним прикосновением своей колдовской руки. Дауны, к сожалению, долго не живут. Ущербным ангелам не дозволено слишком задерживаться в земной юдоли.
А тогда, в челюскинские семидесятые, мы катились цепочкой по узкой тропе вдоль железной дороги. Впереди Маша, за ней я, а замыкала нашу кавалькаду Надя: она всегда отставала. Я смотрел на машину узкую спину, на ее темные и волнистые волосы, летящие за ней в сосновом воздухе, на ее красивые длинные ноги, вращающие велосипедные педали, – во всей этой темноглазой и румяной красоте сквозило предчувствие ожидающих меня эротических тревог. Но тогда эти великолепные тревоги еще не нахлобучились на меня всецело, они лишь слегка предчувствовались. И я оставался беспечен. Разве что меня слегка печалило, что надо возвращаться в маленький домик с медным самоваром в саду и там опять нудно переписывать английские глаголы под надзором старшей сестры Берг – надменной и строгой красавицы.
Глава тридцать восьмая
Мой четвероногий друг
Полагаю, никогда не удастся мне забыть одну квартиру близ станции метро «Академическая» – большую, неуютную, с толстыми мраморными подоконниками, с паркетными полами, по которым пролегали там и сям странные неопрятные царапины. Кроме этих царапин, все здесь пребывало аккуратным, разреженным, унылым, как бы осунувшимся: многочисленные книжные шкафы надменно и в то же время ущербно блестели своими стеклянными дверцами, отражающими большие белесые окна, за которыми перламутрово громоздились солидные сталинские дома – такие же, как и тот, где обитала квартира. Сюда приходил я нередко, раза два в неделю, обреченный на это фатумом изучения английского языка. Родители мои придерживались мнения, что я непременно должен овладеть этим морским языком или же этот язык должен овладеть мною – мол, от этого зависит моя дальнейшая судьба. Родители также полагали, что школьных занятий английским недостаточно, поэтому нанимали мне репетиторов. То ли я был слишком ленив, то ли чересчур мечтателен, но обучение продвигалось вяло, через пень-колоду. Поэтому репетиторы часто менялись.
В их череде в какой-то момент появилась невысокая женщина с бледными волосами, которая и проживала в описываемой квартире, – ее я обязан был регулярно посещать ради совместного погружения в небольшие, яркие, нарядные книжонки, изданные в Оксфорде. Эти книжонки источали столь свежий и едкий запах сочной типографской краски, что я иногда чихал, склоняясь над их белоснежными страницами. Не знаю, обладала ли эта женщина педагогическими талантами, но, безусловно, она обладала робкой, слегка измученной улыбкой и розовыми веками: эту розовость я считал ее физиологическим свойством. В мою четырнадцатилетнюю голову не приходило, что она, должно быть, часто плачет. Она казалась мне очень взрослой, почти старой, хотя на самом деле была довольно молода, не более тридцати пяти лет. Обычно люди внушают мне либо приязнь, либо отторжение, но женщина с розовыми веками не пробуждала во мне ни симпатии, ни антипатии: ее маленькие руки с перламутровыми ногтями, ее бежевые платья, ее тусклый, порою пресекающийся голос, ее жидкий чай с одинокой конфетой, за которую следовало благодарить вежливыми английскими фразами, – все это не оставляло никакого следа в моей душе. И все же я ощущал присутствие неких тайн в этой квартире, в этой репетиторше. Не сразу, но постепенно я стал склоняться к мысли, что живет она там не одна.
Как-то раз мне случилось совершить кое-какой добрый поступок в отношении одного животного, и так вышло, что женщина с розовыми веками стала свидетельницей этого доброго поступка. Итак, я проявил себя с лучшей стороны, после чего, как мне показалось, она стала присматриваться ко мне, как бы мысленно нечто взвешивая или обдумывая. Какие-то незримые гирьки возлагала она на свои мысленные весы, пока я пытался воспроизвести англоязычный диалог «Визит к дантисту», заученный из пахучей оксфордской книжки. Со стены на нас неулыбчиво взирал фотографический портрет ее умершего отца-академика, физика-ядерщика, о котором мне было известно, что он отдал жизнь за решительное развитие своей рискованной науки. Его безволосая голова, его выпуклые очки, его брезгливый рот… Его крупные, фарфоровые морщины…
В общении со мной она старалась не допускать в свою речь русских фраз, по всей видимости следуя педагогической методике полного погружения в изучаемый язык, поэтому я даже слегка вздрогнул, когда под конец одного из занятий она вдруг промолвила по-русски, говоря с подчеркнуто обыденными, даже преувеличенно тусклыми интонациями и глядя в окно, где собирался накрапывать неуверенный дождь:
– Ты добрый мальчик и, кажется, начитанный, хотя к иностранным языкам у тебя не лежит душа. Но это придет со временем. Постепенно, не сразу, даже может быть очень нескоро, но ты почувствуешь очарование английской речи. И после уже не сможешь вырваться из ее объятий. Хочу познакомить тебя с моим сыном. Он твой сверстник, и мы живем здесь вдвоем. У него совсем нет друзей. Ребенок должен хотя бы изредка общаться с ровесниками, разве нет? Вдруг вы подружитесь? Он совсем не выходит из комнаты, света белого не видит. Боится показаться на глаза людям – даже взрослым, а о детях я уж совсем молчу. Он гордый, не хочет, чтобы над ним смеялись, пялились на него, как на чудо заморское.
Она быстро и легко коснулась уголков глаз краешком белого платка.
– Он болен? – спросил я, все еще думая о дантисте и его привередливом пациенте, желающем засыпать зубного врача градом малозначительных вопросов.
– Нет, он здоров, слава Богу. Но, видишь ли, он родился с аномалиями. Он не такой, как все. – Она подняла глаза на портрет академика. – Мой отец… Рискованные эксперименты… Он на все готов был ради науки, да и время было такое… На мне это не отразилось, пронесло как-то, а вот через поколение аукнулось.
Я растерянно молчал, не зная, что, собственно, следует говорить в таких случаях.
– Ты, наверное, хочешь спросить, что с ним не так. Я скажу тебе. – Она слегка сжала губы, не отрывая взгляда от дождливого окна. И произнесла, добавив в звучание своего и без того тусклого голоса еще одну дозу искусственной сухощавой обыденности: – У него четыре ноги. Да, четыре. Одна… – тут она словно бы заторопилась. – Но он очень начитан. Очень. Постоянно читает, и не по возрасту. Вся эта философия, философия… Тебе будет интересно пообщаться с ним. Про тебя мне говорили, что ты рисуешь. Ну, ясное дело: гены. А вот мой не рисует. Совсем. И совсем не выходит из своей комнаты. Только читает, читает. Интеллектуально он очень развит, не по годам, но нельзя же все время только читать и читать – или я не права? Может, ты пристрастишь его к рисованию. Это было бы полезно для моего мальчика.
Я сидел, как сугроб за околицей. Лучше бы она сказала это все по-английски, что ли.
Она решительно поднялась со своего стула, провела растопыренными пятернями по нижней части своего платья. Блеснули перламутровые ногти.
– Пойдем. Проведаем его.
Я покорно отправился в глубину квартиры вслед за ее бежевой спиной. Зачем им столько больших и полупустых комнат? Зачем им все эти хрупкие бессмысленные столики с чистыми хрустальными пепельницами? Я никогда не видел эту женщину курящей.