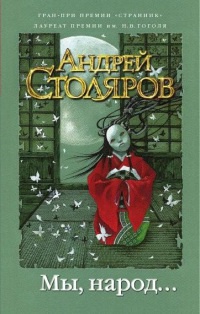Книга Малый апокриф (сборник) - Андрей Михайлович Столяров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поперек главного зала была натянута веревка. За ней, в противоестественной пустоте, освещенная сразу из двух окон, одна на стене, словно вообще одна на свете, висела картина. Она была в черной раме. Будто в трауре. Это и был траур — по нему, по Климову. Он взялся руками за веревку. Ему что-то сказали — шепотом. Он смотрел. Его осторожно потрогали за спину. Он щурился от напряжения. Это было невозможно. Заныли виски, защипало глаза от слез — словно в дыму. Нельзя было так писать. Какое-то сумасшествие. Выцвели и исчезли стены, исчезли люди. Он прикусил язык, почувствовал во рту приторную сладость крови. Гулко, на весь зал, бухало сердце. Его предупреждали. Ему говорили: будет точно так же, только в сто раз лучше. Но кто мог знать? Он видел лишь эскизы и писал по эскизам. Его обманули. Не в сто раз — в тысячу, в миллион раз лучше. Просто другой мир. Тот, которого ждешь. Мир, где нет хронического безденежья и утомительных метаний по знакомым, чтобы достать десятку, где нет комнаты в кишащей коммуналке — похожей на гроб, и сохнущего в бесконечном коридоре белья, и удушающей ненависти соседей к неработающему. В этом мире никто не вставал в пять утра и не гремел кастрюлями на кухне, и не было стоячей, как камень, очереди на квартиру где-то на краю света, и можно было не стесняться друзей, выходящих из жирных машин (Как дела, Коля? Все рисуешь?). В этом мире не было кислых лиц у членов выставочного комитета, и не подступала тошнота от своего заискивающего голоса, и не было безнадежных выбиваний заказов: оформление витрины — натюрморт с колбасой, и отчаянных часов в мастерской, когда ужас бессилия выплескивается на полотно, и внутри гнетущая пустота, и кисть будто пластилиновая, и хочется раз и навсегда перечеркнуть все крест-накрест острым шпателем.
Его грубо взяли за плечо. Климов очнулся. Оказывается, он непроизвольно продвигался ближе. Шаг за шагом. Веревка, ограждающая картину, натянулась и была готова лопнуть. Дежурный рычал ему в лицо.
Климов, сутулясь, поспешил вернуться назад.
— Посмотрели — отходите, — сказал дежурный.
— Шизофреник, — объяснял кто-то за спиной. — Таким субъектам нельзя смотреть картины Сфорца. Может запросто сойти с ума. И порезать.
— Как порезать?
— Обыкновенно — ножом.
— Куда смотрит милиция…
Дежурный толкал Климова в грудь.
— Отходите, отходите!
Он чувствовал на себе любопытные взгляды. Кровь прилила к лицу. Девушка рядом с ним, вытянув прозрачную детскую шею, смотрела вперед. Прикрывала рот ладонью, будто молилась.
— Не трогайте меня, — сквозь зубы сказал Климов.
Ему хотелось крикнуть: «Это писал я! Здесь — мое небо! Мой воздух. Тот, что светится голубизной. Сфорца тут ни при чем. Посмотрите в другом зале. Там висит картина. На ней такое же небо. Счастье, которое излучают краски, сделал я. Эмалевая голубизна, чуть выцветшая и тронутая зеленым, как на старых полотнах Боттичелли — это могу только я. Сфорца этого не может.»
— Гражданин, — напомнил дежурный.
— У него в мастерской висят картины без неба, — хрипло сказал Климов.
— Заговаривается! — ахнул за спиной женский голос.
— Да вызовите же милицию!
Климов стиснул зубы и отошел. Его сторонились. Он стал за мраморной колонной. Полированный камень был холодным.
— Я прошу вас покинуть выставку, — негромко, но с явной угрозой сказал дежурный.
— Я никуда не пойду, — сказал Климов.
Он был точно в ознобе. Дрожал. Прижал к мрамору пылающий лоб.
— Хорошо, — сказал дежурный. — Поговорим иначе. — Исчез, будто растворился. Только заволновалась толпа — в направлении выхода.
— Скандалы устраиваешь? — насмешливо сказал кто-то.
Климов с трудом оторвал лицо от колонны.
— Вольпер?
Низкий, очень худой человек, изрезанный морщинами, неприятно обнажил желтые десны.
— Ты все-таки решился, Климов…
— А ты видел? — спросил Климов, громко дыша.
— Я тебя поздравляю, — сказал Вольпер. — Теперь за тебя нечего беспокоиться. По крайней мере десятком картин ты обеспечен.
— Он меня убил, Боря, — сказал Климов, держась за колонну.
Вольпер откровенно засмеялся, раздвинув морщины.
— И хорошо. Надеюсь, угостишь по этому случаю. Ты теперь богатый.
Возник милиционер. Не тот, что у входа, а другой — строгий. Дежурный, согнувшись, показывая на Климова, шептал ему на ухо. Милиционер поплотнее надвинул фуражку.
— Где милиция, там меня нет, — сказал Вольпер. Дернул за рукав. — Пошли отсюда. Что ты нарываешься?
Восторженный шепот прошелестел по залу. Все вдруг повернулись. Окруженный венчиком притиснувшихся к нему людей, из боковой, служебной двери вышел человек — на голову выше остальных. Бархатная куртка его была расстегнута, вместо галстука — шелковый красный бант. Человек остановился, попыхивая трубкой, неторопливо огляделся. Держался он так, словно вокруг никого не было.
— Сфорца, Сфорца, — будто шуршали сухие листья.
— Великий и неповторимый, — хихикнув, сказал Вольпер. — Но каков мэтр. Знает, собака, — как надо. И Букетов рядом с ним.
У Климова оборвалось сердце. Рядом откашлялись. Это был милиционер. Он приложил руку к фуражке — на выход.
Окружавшие говорили что-то радостное и почтительное. Сфорца, глядя поверх, благожелательно кивал. Медленно и глубоко затягивался трубкой.
Только бы не заметил, подумал Климов.
Трубка на мгновение застыла — Сфорца увидел его. Так же благожелательно наклонил крупное римское лицо. Моментально образовался проход. На Климова глазели. Милиционер отпустил локоть. Сфорца шел по проходу, несколько разводя руки для приветствия. Ладони у него были широкие и чистые.
— Подвезло, — сказал Вольпер.
Климову захотелось убежать. Он скривился — от стыда.
— Весьма рад, — сочным голосом сказал Сфорца. Положил в рот янтарный мундштук.
— Ну, я пошел, — сказал Вольпер.
Откуда он взялся? У него была итальянская фамилия. В ней чувствовался привкус средневековья. Звезды и костер. Сфорца — герцоги Миланские. Говорили, что его предки были с ними в родстве. Вероятно, он сам поддерживал эти слухи. «Сфорцаре» — одолевать силой. Отблеск великолепного времени лежал на нем. Отблеск Чинквеченто. Отблеск Высокого Возрождения. Светлое средокрестие Санта-Мария делле Грацие невесомым куполом венчало его, прямо в сердце вливались скорбь и молчание «Снятия со креста», холодный «Апокалипсис» Дюрера уравновешивался эмоциональной математикой «Тайной вечери» и пропитывался взрывной горечью Изенгеймского алтаря.
— Ты зачем пришел? — блестя мелкими зубами, спросил Вольпер. — Ты собираешься рассказывать мне, что он — величайший художник всех времен и народов?
— Может быть, — сказал Климов, прикрывая глаза рукой.
— Ха-ха! — отчетливо сказал Вольпер.
Он держал на коленях деревянную маску. Колупнул ее замысловатым резцом. Вылетела согнутая стружка. Маска изображала оскалившегося черта с острыми ушами и редкой козлиной бородой.
Десятки таких же чертей — гневных, радостных, плачущих, смеющихся — деревянными ликами глядели со стен. Некоторые были раскрашены — малиновые щеки и синий лоб, как чахоточные больные. У