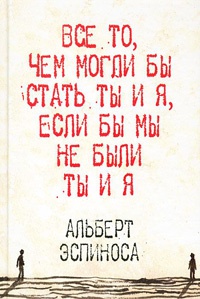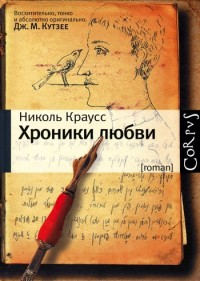Книга Язык огня - Гауте Хейволл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дважды он видел, как горел дом. Ему еще не было десяти. Оба раза он молчал и потом ни единым словом не упоминал о пожаре.
Сигнализация срабатывала нечасто, но, когда она включалась, ему разрешали ехать на пожарной машине вместе с Ингеманном.
Начиналось все с телефонного звонка в коридоре. Ингеманн снимал трубку. «Да?» — говорил он. Альма выходила из кухни, вытирая руки о передник. На несколько секунд наступала тишина. Потом голос Ингеманна: «Пожар». Словно заклинание. Все дела откладывали. Важен был только пожар. Ингеманн, обычно спокойный и рассудительный, вдруг начинал переживать. Однако в начавшейся суматохе он никогда не забывал Дага. Даг выходил с ним из дома к столбу перед мастерской. Там отец поднимал его, чтобы он дотянулся до большого черного выключателя, служившего пожарной сигнализацией. Он с трудом его поворачивал, все-таки у него получалось. В этот момент, как гром средь ясного неба, начинала голосить сигнализация. Он шел за отцом в мастерскую и смотрел, как Ингеманн надевает форму, потом поднимался с ним в горку к пожарной части, затыкая уши. Так оно и было. Ему приходилось затыкать уши всю дорогу до пожарной части. Потом он залезал в машину, захлопывал дверь, и они выезжали. Ехали быстро, отец включал сирену, и тогда казалось, что кровь стынет в жилах, сначала стынет, а потом разгоняется, и он смотрел на отца и чувствовал, что гордится им. Ему приходилось держаться крепко, и, пока они ехали, отец говорил, что он не должен подходить близко к огню, нужно оставаться вдалеке, ничего не трогать, не мешаться под ногами, не отвлекать. Просто стоять и смотреть. Так он и делал. Он стоял и смотрел, как меняется дом. Сначала из окон и сквозь крышу тянулся дым. Дым сочился из всего дома, словно дом придавили. А потом через крышу прорывался огонь, и в небо поднимался угольно-черный столб. Дым шел вертикально вверх, потом успокаивался и парил в небе, влекомый ветром. Затем начинались стоны, или мелодии, или пение, или как это еще можно назвать. Высокий, ясный, поющий звук, который можно услышать только внутри горящего дома. Даг спрашивал отца, что это такое, но Ингеманн смотрел на него с удивлением и непониманием. Стон. Пение. Первый раз, когда ему было семь. В тот раз, с собакой. Он залез на дерево на расстоянии от пожарной машины, дома и огня. Сидел там тихо как мышка и смотрел. Он единственный услышал лай и вой на задымленной кухне, но не смог спуститься и сообщить отцу. Только сидел тихо и спокойно, как отец ему велел. Сидел и смотрел на людей, которые разворачивали шланги и бегали туда-сюда по двору. Он почувствовал чудовищный жар, обдававший дерево леденящими порывами. Он видел струи воды, поднимавшиеся, набиравшие силу, но поглощаемые дымом. Стекла дрожали, грохот и треск превращали дом в корабль, выходящий в космическое пространство. И вдруг пламя прорвалось через окно второго этажа и потянулось по стене вверх. Будто кого-то наконец выпустили. На кухне все совсем стихло.
Потом он слез с дерева и спокойно подошел к отцу. Стоял рядом, пока Ингеманн не взял его на руки, и так и сидел на руках у отца, а дом рушился.
Он так никому и не рассказал про собаку, это выяснилось на суде. Он сказал, что в тюрьме она начала ему сниться. Что он мог внезапно проснуться ночью, не понимая, где находится, лежал неподвижно под одеялом, леденея от ужаса, и тогда чувствовал тяжесть собаки на ногах.
Его так долго ждали. И, когда он наконец родился, его очень сильно любили. Он вырос и был любим всеми вокруг. Но он опускал взгляд, когда разговаривал с людьми.
Ингеманн научил его пользоваться оружием. Сначала мелкокалиберной винтовкой, потом обычной. Оба любили установить мишень на краю поля — белый круг с маленьким черным кружочком посередине, — а потом лечь рядом на пустые мешки, прицелиться и спустить курки. А когда звуки выстрелов умолкали, они вставали и спокойно шли через поле, чтобы рассмотреть мишень. Оказалось, что у него талант. Его выстрелы подбирались все ближе и ближе к центру черного кружка. Отец брал его на стрелковые соревнования в Финсланне и в окрестных деревнях. Они клали ружье на заднее сиденье и уезжали, а Альма готовила обед к их возвращению. Он выигрывал кубки и был, как правило, лучшим. Если его вдруг кто-то обыгрывал, всегда находилось объяснение: либо ветер внезапно переменился, либо мишень неправильно установили, либо опора была скользкой, или просто он устал, или перед отъездом съел слишком много или слишком мало. Всегда находились причины; только когда он выигрывал, причин искать было не нужно: победа была естественной. Он был лучшим. Он брал с собой кубки и ставил их на стол в гостиной, и там они стояли пару дней, чтобы Альма и Ингеманн их как следует разглядели, а потом они переезжали на полку над пианино. Примерно раз в две недели Альма снимала все кубки с полки, ставила их на стол, вытирала с полки пыль, а потом ставила кубки на место. Кубки были их общей победой.
Так они это ощущали — общая победа троих.
Каждый день он уезжал на велосипеде сперва до перекрестка у закрытого магазина, а оттуда — в школу в Лаувсланнсмуэне. Там ему нравилось. Школа воспринималась как игра. Какой предмет давался ему лучше всего? Норвежский? История? Математика? Он был отличником по всем предметам. Он был лучшим в классе. У него не было конкурентов, почти как в стрельбе, он был на самом верху, и там он был один. Да он и стремился быть один. Он находил в этом радость. Это стало необходимостью. Никто не должен был его обойти, поэтому он начал соревноваться с самим собой. Однако случалось, он ошибался. Какую-то контрольную он мог написать не так хорошо, как рассчитывал. Иногда закрадывались помарки или ошибки посерьезнее, а порой он просто делал грубые ошибки. От спешки. Иногда он получал «четыре» или даже «четыре с минусом». Тогда он замолкал, мрачнел и с укоризной смотрел на учителя, Рейнерта Слёгедаля, который был сельским учителем еще с довоенных времен. Он сидел подолгу глядя в одну точку, а если кто-нибудь спрашивал, как прошла контрольная, в его глазах появлялось что-то непонятное, чужое, жесткое, неумолимое и ледяное. И они понимали, что никогда больше не спросят его о результатах, что надо оставить его в покое, пока отчуждение не пройдет, и больше никогда не спрашивали, потому что хотели, чтобы Даг оставался самим собой.
Одну зиму он готовился к конфирмации. Это было в 1971 году. Он стоял, преклонив колени, перед алтарем вместе с остальными, и за каждого из них читали молитвы.
Он поступил в гимназию в Кристиансанне. В кафедральную школу, это было в 1973 году. Ему приходилось рано вставать, чтобы успеть на автобус, останавливавшийся у молельного дома в Браннсволле. Ему нравился город, но домой возвращаться было всегда лучше. Зимой он выезжал засветло и возвращался уже в сумерках. У Альмы был готов обед. Они с Ингеманном поджидали его, подбрасывая дрова в печку и высматривая фары автобуса, приближающиеся по равнине. Когда он наконец входил в дом, у него были покрасневшие с мороза щеки, снежинки в светлых волосах, а глаза полны впечатлений от прошедшего дня. Он вешал куртку на крючок в коридоре, шел мыть руки, пока Альма выкладывала картошку, и вся семья садилась за стол.
Он чувствовал, как хорошо возвращаться домой.
Свое абсолютное лидерство в классе он утратил, постепенно отошел на второй план. То есть он по-прежнему получал хорошие оценки, иногда даже блестящие, но уже не был лучшим. Стал менее заметен. Казалось, он воспринимает это легко. Но даже новые одноклассники поняли, что лучше оставлять его в покое, когда всем раздавали проверенные контрольные. Они тоже замечали ледяной взгляд и странно окаменевшее лицо. И они тоже хотели, чтобы Даг оставался самим собой. Все хотели, чтобы он оставался самим собой.