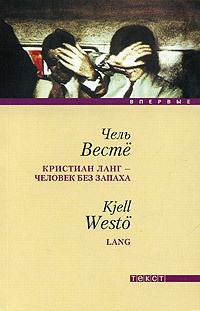Книга Ладья темных странствий. Избранная проза - Борис Кудряков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Зима захрипела, раскиселилась, в свежий бархат снегов своё сердце скрывать перестала. Одернула саван прощальный в плясе метелей. Кровью лёд проистёк. Посмешище певчих ехидно задёргалось трелью. Рессорная тачка со старой Зимой катилась по половодью снов замордованных семянноносцев в сумерках парных, без шума, без гама, рессорная тачка со старой Зимою катилась, с собою прощаясь. Крики весны приближались. Кружевницы утр всё более вяло затягивали лужи, когда тачка со старухой была сброшена в шахту, на тело прошедшей осени. Весенние дни – эти горлопаны с барабанами, грязные, с лицами гнилых идиотов (вместо головы только рот), прокричали ура и ушли закусывать кошачьими воплями. Вода причесалась надеждой.
Двое суток в пути. Подошёл к берегу моря. Из дремучего леса глядело на волны Ничто. В бутылку вложил мелко исписанные листки, плотно закупорив, швырнул её в волны.
Пульс. Поклонился в пояс. Никогда. Былое. Ветер. Дождь. Мокрые камни. Осторожно. Не поскользнуться. Вот и сухостой. Нож туп. Лучше ломать. На поляне, нет, вместе с лесом. На земле пальто, облитое бензином. На него уложен хворост. На хворост положить дрова и снова хворост. Для аромата немного хвои, ещё дров. Четыре железных обруча на самом верху, чтобы тело не встало, не струсило, не вспорхнуло. Рядом небольшой окоп для охлаждения коньяка. Что ещё? Рубашку можно не охлаждать. Бутылка уже в пути. И ему пора. Поджёг длинный шнур. Пока огонёк приближался к будущему костру, влез наверх. Лёг. Вздохнул. Съёжился. В глаз попала капля, дождя. Как долго она летела… Откуда куда? Сверху вниз или из глаза в облако? Километровый путь.
Кукла раздавила ампулу зубами, и ахнуло, взорвавшись, пламя костра, тщательно продуманного, зазвенел свет, лопнула от жара голова, и что-то, похожее на чёрную извивающуюся ленту, взметнулось вверх, в родные покинутые просторы. Через некоторое время чёрная лента стала белой, блестящей, сияющей; она превратилась в эллипс отражения. Усталые рыбаки в шлюпках, подняв головы, ясно различали в небе, в середине эллипса то паука, то змею, то мост, то затопленный город… Эллипс поднимался всё выше и выше, исчез.
Долго ещё бесприютные слова блуждали по лесу: расставаться нелегко, но впереди долгожданная встреча с покинутым домом, с друзьями. Сколько же можно скитаться по чужим пространствам голодному и слепому. Там, на родине, давно горит свет и огонёк манит, зовёт покинутых и обречённых.
Не осенью, а весной подводят итоги перед кольцевой дорогой неизбывности. Пересчитывают оставшихся близких, вспоминают дни смакования недугов. Бродячими псами с глазами дряхлого осьминога скитаются тени по непросохшим паркам, щёлкая прутиком, щурясь, останавливаясь взглядом на пауке или гвозде в берёзе. Скособоченной шляпой распихивая ленивые предлетние воздухи, идут во Вне.
Бритая девочка-крохотуля остановилась у выброшенного на берег моря сосуда из тёмного стекла, окутанного промазученными водорослями, уже подсохшими на апрельском солнце, в свете которого жижикали пчёлы, кружась над стеклянным сосудом, заткнутым пробкой, не позволявшей пчёлам и девочке-замазуле узнать содержимое, так привлекавшее их, что не заметили, как пошёл дождь, сбивший на землю пчёл и простудивший (лишь слегка) девочку, убежавшую домой и уже рассказавшую о находке соседу, не замедлившему принести сосуд домой и высосать содержимое, весьма приятное на вкус, напоминавшее настойку из фиников, взрощённых, как знать, не на берегу ли Персидского залива, волны которого, укачав северный подарок, вернули его домой, куда тот плыл дальним путем, законченным вскрытием и опустошением. Также были извлечены и мелко исписанные листки, начинавшиеся словами: «На сфере жемчуга сидит тарантул старый…».
Забыты жаркие пейзажи ласковой водой, и маленькая Оля тащила за ногу большого водолюба. Жук задыхался, боль в задней конечности сотрясала выпуклую спину. Это расплата, – думал жук, – за моё пристрастие к улиткам в личиночном прошлом. Притащила жука в светлую. В комнате сидел человек; из рук в окно уходила блестящая лента. По этой дороге шли, ползли, катились в зелёном. Дойдя до отметки на ленте, они сбрасывали свой груз в шкатулку, исчезали.
Попадались упрямые, не желавшие отдать ношу. Подлетала оса, отнимала. Жука накормили блюдом из сердец мальков ерша, сытого толкнули в шкатулку, приказали сторожить. На дне в беспорядке лежали книги. Листами в них были чешуйки крыльев бабочек, в основном – голубянки икар и сиреневого бражника.
В первую же ночь из-под книг вылезла личинка стрекозы. Жук бросился на неё: она могла подрасти и унести драгоценные книги. Но личинка имела невкусный вид. Она прошептала: наши родители были дружны, ты жил около единственного цветка нимфея кандида. Да, – ответил страж, – но моё жилище давно вырвано.
Как-то жук заглянул в одну из книг и нашёл в ней смутно знакомые: столбики ничего ураганы тьматьмы треугольники отрицания тартарограф пашет мозговые целины вектор вета цветооставления неонеотарные речи.
Откинулся от страниц, прикинулся человеком, жуком. Ночью хороводы видений экзальтировались до реальность. Жук сидел в шкатулке второй день, и второй день к нему кидали крошечные книги. Из личинки выросла стрекоза. Она мечтала выбраться к родному озеру. По ночам летала над дремотным водолюбом: к бегству сил набиралась.
Однажды пришёл Некто и сообщил стрекозе, которая была девочкой, что ей пора замуж. Перед уходом сделал фокус: между ладонями заплясали шарики, они светились. Оля, оказавшись во власти цветочных причуд, полетела к озеру.
Откованные из стекла плоскости быстрых стрекозиных крыльев щекотали спину болотному раздолью. Над завалами вились цепочки насекомых; летающие броши шептались. Иногда гирлянда, состоящая из пяти, десяти стрекоз, рушилась в зелёные сабли осок, вновь поднималась – сцепиться.
Зыбкое щетинистое шевеление горизонта. За ближним – второй, третий горизонт. Там и вблизи – ювелирные магазины. Редко луч солнца совпадал в рефлексе от тысяч-тысяч блестящих крыльев, обтянутых молодой паутиной, и сияние лёгкой лентой нежило дно глаз.
Пришли с посохами холода. Привалив травы, одарили их последним оттенком ботанического карнавала. Комары уже не кусаются, убедились в бесплодности тирании, отказались от пищи; голодовка. Болит источённое жало, а по ночам всё чаще устрашающее виденье паука. Одрябшие кувшинки разлиты сильными хвостами повзрослевших щурят. Пузыри в облака со дна стремятся, но долог ещё их путь, успеть бы до морозов. Уходят в сиротливое кувыркание оторванные листья: отдохнуть от колебаний, обязанностей; в падении подвести итог.
Первое, что пришло в голову Ольге, это желание побрить отца. Взгляд избегал скользить по шее, по близким глазам. Мыльная нега скрыла тёмный след на шее, и эхо безумия стало далёким. Небрежно побрила, тёплым от пара полотенцем обласкала лицо. Пальцы ощутили через ткань яблоки глаз, в них ещё не остыли последние танцы предметов.
Всё. Присела на диван, распушила волосы. Заломив изгиб спины, сняла защитный барьер. Криком.
Отец совсем покинул себя, и лишь запах служебного одеколона (составлен протокол, отснято девять казённых снимков, Ольга увезена в больницу с помрачением) напоминал о седьмом знаке зодиака; предел осязаний. Когда выносили холодевшее бремя в виде беспризорных мощей: голова, руки, ноги, убежище оптимизма – отец пытался начать осмотр картин перезрелых, назойливых жаворонков: щедроты зональных яркостей; радуга обещаний.