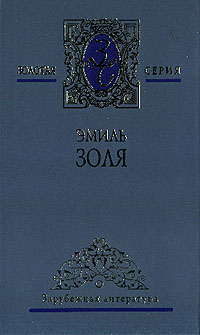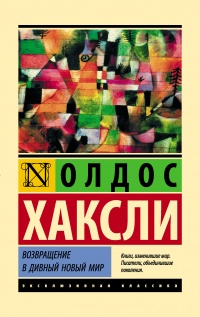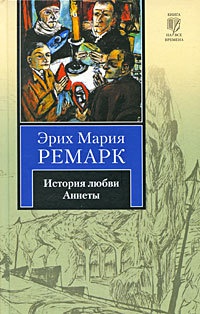Книга Шесть ночей на Акрополе - Георгос Сеферис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Неужели? Думаешь, я его дам?
— А то как же еще: госпожа сказала, что дашь.
Он схватил конверт и скатился вниз по лестнице.
Как редко раздается телефонный звонок в Афинах. Сегодня я подумал об этом.
Вечером того же дня Стратис торопливо возвратился домой и вошел в свою комнату. Там он стал на стул и начал рыться в книгах, листая их подряд одну за другой. Когда книги кончились, он вытащил из стола два ящика и вывалил их содержимое на кровать — тетради, фотографии, разного рода бумаги. Многие из них он разорвал. На какое-то мгновение задержался над одной из фотографий. Затем снова обрел внутреннее равновесие и бросил все, как было, обратно в ящики. Результатом этого поиска явился десяток крохотных листов, почерневших от карандаша. Он прочел их и разложил перед собой на столе, словно карты. Затем он написал:
Воскресенье, вечер
Итак, пришла Саломея. Вот наше прошлое. Оно легкое:
«Июль прошлого года, Кефисия.[38]Было около половины третьего пополудни. Стояла жара. Автобус, совершенная развалина, казалось, не имел ни одной рессоры, сиденья были узкие, колени болели. Я был едва ли не единственным пассажиром. Кроме меня, был еще какой-то мужчина средних лет, очень загорелый, с лихорадочным огнем в глазах, который казался скорее деталью транспортного средства, чем созданием Божьим. Шофер за рулем напоминал человека, перегнувшегося за борт из-за морской болезни. Иногда он поднимал лицо, на котором было начертано неисчерпаемое терпение. Мы катились, словно сами того не желая, подпрыгивая на выбоинах, издавая звон пустых бидонов и разбиваемого стекла. Эта расшатанная клетка была настолько пустой, порожней и больной, что мало-помалу мне стало казаться, будто я плыву на том самом ужасном корабле, который повстречался Артуру Гордону Пиму.[39]
Мы ехали. Казалось, никого больше нам и не было нужно, когда на остановке в Халандри[40]вошла женщина, которую Нондас представил мне на тротуаре у Музея, — Саломея. Ее подстриженные волосы были теплых тонов, напоминавших рыжеватый каштан. Словно глядя из окна на что-то, оставшееся позади, она повернулась и посмотрела на меня. Я поздоровался. Она улыбнулась с выражением горького наслаждения. Я пытался вспомнить ее фамилию, и в ту самую минуту легковой автомобиль с адским шумом, призывавшим пропустить его, обогнал нас. Он был новый, эластичный, чувствительный, с блестящей никелевой поверхностью. Внутри него сидела очень элегантная дама. В то мгновение, когда автомобиль обгонял нас, водитель, несмотря на то, что был в форме, невзирая на элегантную даму и марку автомобиля, высунул из окна руку и сделал нам грубый, красноречивый жест.
Я испытал чувство невыразимо жалкого состояния и засмеялся. Саломея повернулась ко мне и сказала:
— Так нам и надо. Не правда ли?
— Да, — ответил я. — В это время в Аттике все дозволено.
— Дозволено?
— Бесстыжее время.
— Вы живете в Кефисии?
— Да. А Вы — в Халандри?
— И я в Кефисии.
Она вышла на Синтагме.
— Может быть, еще увидимся, — сказала она, выходя.
На улице Стадиу на убогих военных похоронах играл оркестр. Музыка состояла из всплесков фальшивых звуков и была слишком медленна. Сидевший рядом с катафалком служащий похоронного бюро, совершенно лысый, неизвестно зачем упорно грыз себе большой палец. У гроба шел мальчик, держа в руках гитару с разорванными струнами. Казалось, будто его побили. А может быть, он и не имел отношения к похоронам.
У мраморной лестницы парка на Синтагме я снова встретил Саломею. Она шла со стороны проспекта Амалиас вместе с девушкой-блондинкой — с прекрасной фигурой, одетой со вкусом, в цвете юности. Увидав меня, она сказала что-то своей спутнице, и обе они засмеялись. Теперь она показалась мне значительно более хрупкой, чем в автобусе, хотя была в том же платье.
Август прошлого года, Кефисия. Вчера у Аспергиса. Нондас, Клис и Саломея. Я просидел с ними около часа. Она не проронила ни слова. Иногда посматривала по сторонам. Иногда, словно вспомнив, что рядом были и другие, улыбалась. Только когда мы уже собрались расходиться по домам, она оказалась на мгновение рядом и спросила:
— Помните тот грубый жест, который мы с Вами разделили?
— Разве такое забудешь? — ответил я. — Если бы тот день был почтовой маркой, она стоила бы несколько миллионов.
— Знаете, я хотела бы познакомиться с Вами. Думаю, общество людей Вам не нравится…
Она кашлянула и продолжила:
— Завтра, восьмого, около шести, думаю, мы могли бы увидеться здесь… Хорошо бы прогуляться…
Иногда ее лицо напоминает мне кносскую „Парижанку“.
Начало сентября прошлого года, Кефисия. „Завтра, восьмого“ она пришла со своей подругой, с которой была у мраморной лестницы парка на Синтагме. Она зовет ее „Лала“. Ей не более двадцати двух. Во взгляде и в теле у нее есть что-то мутное: испытываешь такое чувство, будто нужно развеять обволакивающую ее дымку. Обволакивающую не только глаза, но и тело, если кто верит, что тело видит.
Радость Саломеи была какой-то хриплой — не знаю, быть может, она оставалась еще недоступной моему настроению. Сияние неба было сиянием, которое только и доступно сиянию вселенной в тот час, а я среди этого света был словно рана, затянутая черной тканью. В Коккинарасе[41]Лала вошла в церквушку. Под двумя огромными кипарисами приютился у края могилы мокрый глиняный кувшин. Саломея подняла его, наклонила и пролила немного воды на землю — какой-то выход. Я посмотрел на нее: глаза и губы ее были резко очерчены. Очень подвижная, она подошла ко мне. Я не сдержался и спросил:
— Кто нас спасет, госпожа Саломея?
Она ответила:
— Неужели Вы ожидаете спасения от других?
Лала вышла из церквушки и сказала:
— Поглядите на грешников.
Саломея засмеялась. Вот и все.
Нынешний Новый год. Чистильщик обуви принес мне небольшой конверт. Его содержимое — самая обычная марка и бумажка, на которой Саломея отметила карандашом:
„Эта марка не редкостная. Однако не исключено, что когда-нибудь она будет стоить миллионы. С Новым Годом!“