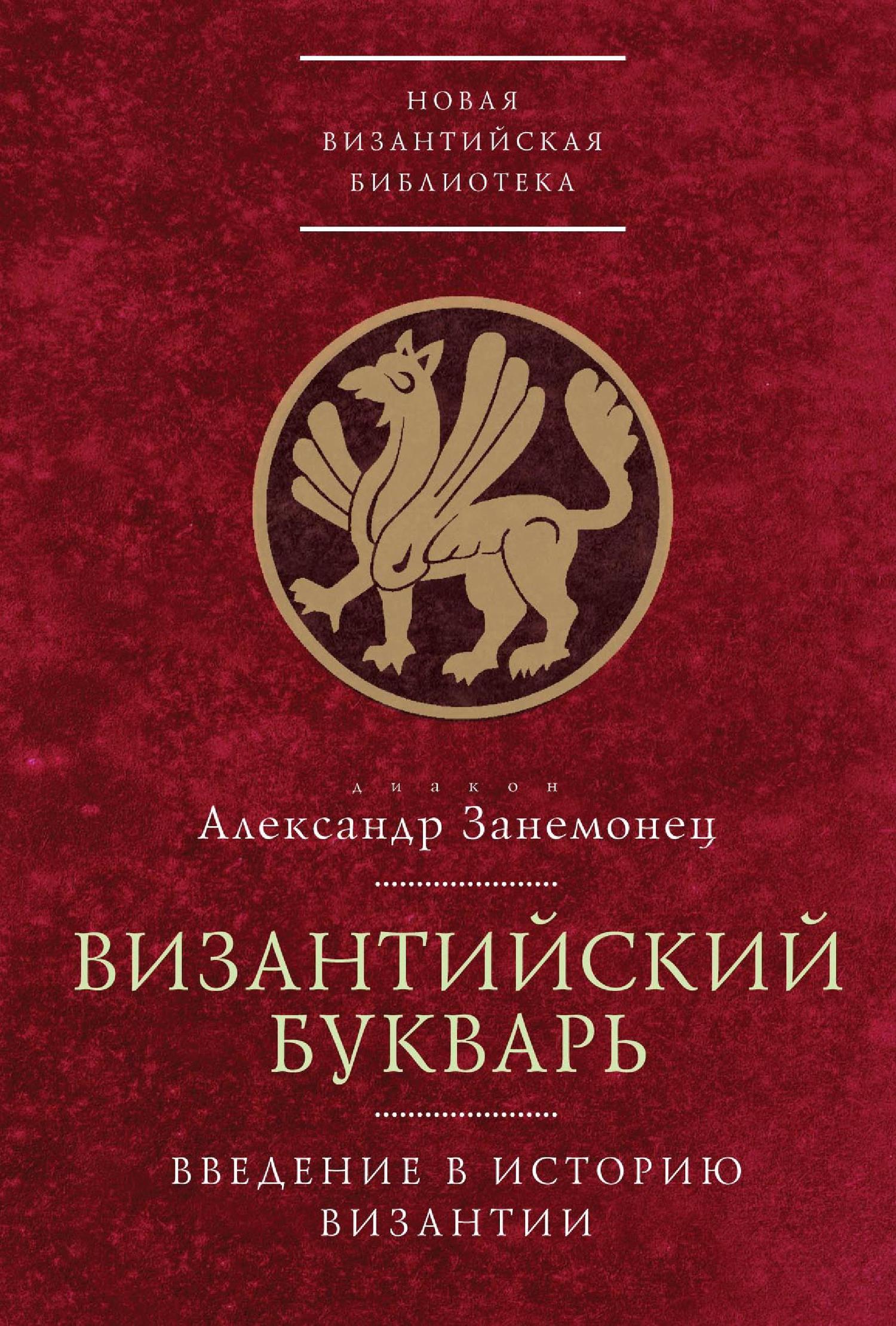Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Коснувшись этого, позволяю себе коснуться заодно и темы, которая особенно много вызвала порицания и даже насмешек – темы смерти. Кто только не остроумничал по поводу пристрастия молодых писателей, – главным образом, поэтов, – к «проклятой курноске», как говорил вечно думавший о смерти Петр Ильич Чайковский, и сколько было в этом юморе, нередко опускавшемся до откровенного зубоскальства, сколько было в нем близорукости и несправедливости! Во-первых, во всей мировой поэзии смерть была, есть и будет одним из глубочайших, неисчерпаемых источников вдохновения, – как в поучение неисправимым весельчакам сказал об этом раз навсегда еще Платон, действительно «божественный» Платон, удивительную цитату из которого насчет связи между поэзией и смертью неутомимо, в различных своих сочинениях, приводил Лев Шестов. Чем была бы поэзия, если бы не постоянно маячила в ней, пусть и вдалеке, эта черная тень, какой смысл был бы в ее надеждах, в ее вызовах, и особенно – как бедна и груба оказалась бы без нее ее музыка! Но это – вопрос общий, не буду на нем задерживаться, да и что сказать о нем в нескольких беглых словах, мимоходом… Во-вторых, как могло бы случиться, что у людей, начинавших сознательно жить с обнаженной, навязчивой мыслью – недоумением о том, зачем, собственно говоря, они живут, как могло бы случиться, что в писаниях этих людей смерть – «всех загадок разрешение, распадение всей цепей», по слову мудреца Боратынского, – отсутствовала бы? Знаю, и не хочу этого затушевывать, что было и некоторое кокетство своей утонченной анемичностью, своим потусторонним ангелоподобием: это могло раздражать, должно было раздражать! Но всякое явление порождает пародию на себя, а если некоторые русские парижане не без томного удовольствия драпировались в нео-Гарольдо-вы плащи, нельзя из-за них осуждать тех, которые – будь у них выбор, – предпочли бы другую одежду.
Вот, значит, в чем был «подвиг»… В желании помянуть добрым словом все то, что сделано было русской литературой в эмиграции, не приходится делать каких-либо возрастных различий: наоборот, надо признать, что второе поколение испытание выдержало. Никто ему не говорил о какой-либо «миссии», о «священном долге». Оно само себе эту миссию назначило, ощутив необходимость ее и отказавшись ее променять на что-либо другое, практически более заманчивое. Ну, а об отдельных творческих успехах или неудачах – когда-нибудь в другой раз! Несомненно, успехи были, и порой значительные, притом с чисто литературной точки зрения, независимо от других соображений. Не забудем, однако, того, что сказал Белинский незадолго до смерти: для русского человека слабая книга с хорошим замыслом всегда будет дороже книги блестящей с замыслом сомнительным. Как бы в дословном своем смысле ни было интеллигентски простодушно это замечание, крупица «метафизической истины» в нем есть! Белинский был очень русский человек, удивительный это был в своей бесстрашной искренности человек и, вероятно, Достоевский, обозвавший его «самым тупым и смрадным явлением русской жизни», больше думал о его запальчивой, но мало оригинальной, наспех усвоенной радикальной и атеистической мудрости, нежели о нем самом…
____
Я пишу эти строки в самом конце 1954 года, почти что через десять лет после окончания войны. Период, которого я коснулся, кончен. Война всех разметала. Одни погибли, другие уехали, у прежних молодых, у «подстарков» – седые головы. Появилась молодежь новая, с совсем, кажется, иными требованиями, иными стремлениями… Что же, пожелаем ей участи более счастливой, и, если действительно отражает она и несет в себе русское будущее, постараемся верить, что отнесется она к трудам, мечтам и мыслям писателей-эмигрантов в первые десятилетия после революции с тем же доверием или хотя бы вниманием, с каким думаем о будущем мы.
Мережковский
Имя Мережковского неразрывно связано с тем умственным, душевным или просто культурным движением, которое возникло в России в конце прошлого века. У движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной – «декадентство», есть уклончивое, неясное имя – «модернизм», есть определение литературное – «символизм». Критики не раз уже устанавливали разницу между этими понятиями и объясняли, в чем, например, декадентство не было символично, а символизм не был упадочен. Но разделениям этим не особенно повезло. Да и сплетение между отдельными ветвями одного и того же дерева было так тесно, что трудно было в этих узорах разобраться. Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление… Только, конечно, были среди тогдашних литераторов люди с узкой, ограниченной душой, с узким умом, и были другие, внесшие в движение духовную серьезность, напряжение и широту.
Узость олицетворял Брюсов. Может быть, именно потому он был на первых порах так удачлив. Именно потому он легко, без сопротивления с чьей бы то ни было стороны, завладел положением «мэтра»: Брюсов был и понятнее, и заносчивее других, и, в сущности, ограничивался культуртрегерством. «Раньше писали плохие стихи, – будем, господа, учиться поэтическому мастерству у отвергнутых великих учителей и будем писать стихи хорошие». – «У нас толкуют все больше о мужичках и о земстве, а на Западе в это время творится новое искусство, – будем же и мы внимательны к этому новому искусству»… Это легко было усвоить, это сулило легкий успех. Брюсов знал, чего хотел, – и завоевание власти оказалось для него делом пустяшным. Но никогда он власти подлинной, над всем движением, не имел, и впоследствии произошел не бунт против его тирании, а просто водворение порядка в литературных делах. Выяснилось, что, кроме просветительной миссии, Брюсов ни на что не в праве претендовать, что сознание его бедно, а кое в чем и порочно, несмотря на пышные слова. Произошло это не теперь, а лет сорок тому назад, еще в то время, когда брюсовский стихотворный дар едва-едва начинал ссыхаться и вянуть. Если не ошибаюсь, в 1910 году, в памятном споре о поэтическом «венке» или «венце», Вячеслав Иванов и Андрей Белый почтительно, но твердо указали Брюсову его место в новой русской словесности. Брюсов сделал bonne mine au mauvais jeu, заявил, что поэтом, «только поэтом», он и хотел быть всю жизнь, и даже принял под свое тайное покровительство возникшие на его, брюсовской, суженной платформе течения, вроде акмеизма и футуризма. Но уязвлен остался он навсегда.
В сущности культуртрегером был и Мережковский. Он тоже «открывал Европу», – причем начал это раньше Брюсова. Это он, возвращаясь как-то из-за границы в Россию, ужаснулся нашей «уродливой полуварварской цивилизацией» и задумался о «причинах упадка русской литературы». Мережковский только что услышал о диковинном новом мудреце Ницше, будто бы окончательно «переоценившем