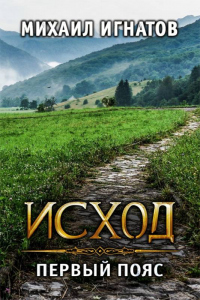Книга Десять дней до конца света - Манон Фаржеттон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В комментариях сыплются «RIP»[5].
С комом в горле Валентин возвращается на стартовую страницу. Прокручивает картинки, кликает на лицо девочки-подростка с фиолетовыми волосами. Она сидит на заднем сиденье машины, где-то на шоссе в пробке, освещенная желтым сиянием фар в ночи. Девочка говорит… по-чешски? По-венгерски? Валентин не понимает ни слова. Она улыбается. Широкой лучезарной улыбкой. Сознает ли она, что на другом конце света умирают люди? Девочка берет гитару, перебирает струны, бросая зазывные взгляды в объектив. Телефон, должно быть, держит ее брат – или сестра – справа на сиденье, и она делает ему знак подвинуться, чтобы снять ее анфас. Несколько ученических аккордов, потом, устремив взгляд своих светлых глаз через экран прямо в глаза Валентина, она начинает петь. У нее низкий, чуть хрипловатый чувственный голос. Валентин не знает этой песни и слов не понимает. Но это не важно. Она поет, он слушает. Он как будто с ней, там, в ночи, в пробке. На короткое время припева он ушел от себя. Он улыбается.
– Почему столько сирен? – спрашивает мать.
Оторваться от видео мучительно. Валентин оборачивается. Мать стоит, сжимая на груди халат.
– Авария на перекрестке, – лжет он. – Грузовик столкнулся с автобусом.
– Это ужасно.
– Да.
– Что ты смотришь?
Уже много дней ей было всё равно, что он делает. Она подходит ближе, склоняется через его плечо.
– Девочка поет, – отвечает он.
– Твоя подружка?
– Нет. Я ее не знаю.
– У нее фиолетовые волосы…
– Красиво, правда?
– В некотором роде.
Валентин накрывает ладонью руку матери, и она улыбается ему. Теперь, когда благодаря видео он представляет себе взрывы, ему легче допустить, что, если их скорость останется постоянной, меньше чем через десять дней они поразят Париж. Он сжимает руку матери. Меньше десяти дней им осталось провести вместе. Будут ли это хорошие десять дней? Больше ему ничего не нужно. Только десять дней с матерью, чтобы она не уходила в себя, где ему до нее не достучаться.
– Наверно, неслабая авария, – замечает она, когда свет новой мигалки озаряет гостиную.
Ч – 227
– Я завтра утром уезжаю к моим, – говорит Раф.
Лили-Анн кивает. Семья ее соседа живет в Лотарингии. Он отправляется навстречу взрывам.
– А Марен? – спрашивает она, удивившись, что Раф не упомянул своего бойфренда.
– Он едет к своим на юг.
Лили-Анн снова кивает. Сколько хрупких пар вот так разбилось сейчас? Сколько решений принято в долю секунды: умереть я хочу с ними – с ним – с ней?
Как будто читая ее мысли, Раф обнимает ее за плечи и прижимает к себе.
– Лучше уезжай из Парижа, пока еще не поздно, Лили… Если твои родители не вернутся…
– Может быть, они уже в самолете.
– Надеюсь. Но обещай мне, что, если их не будет пару дней, ты поедешь к сестре, в родительский дом.
Лили-Анн не отвечает, только склоняет голову к голове Рафа. Она не хочет ничего обещать. Ей сейчас не удается даже ясно мыслить.
Уже просачивается в окна тусклый рассвет. Раф мягко высвобождает руку, приложившись поцелуем к щеке Лили-Анн; свой компьютер он оставляет на журнальном столике. Бросает вещи в рюкзак. Она смотрит на него, не говоря ни слова. Через несколько минут он останавливается возле нее и, положив рюкзак у ног, смотрит на нее оценивающим взглядом.
– Вставай, – тихо приказывает он. – Если ты не встанешь сейчас, не встанешь больше никогда.
Она протестующе хмурится и, глубоко вдохнув, встает перед ним во весь рост. Затекшее после тревожной ночи тело плохо слушается, и она едва не падает обратно на диван. Раф успевает подхватить ее, привлекает к себе.
– Постарайся выжить, – шепчет Лили-Анн, борясь с подступающими слезами.
– Ты тоже, моя красавица… Найдите блокгауз, чтобы укрыться, на побережье их полно. И встретимся через две недели.
Такой исход представляется столь маловероятным, что у Лили-Анн вырывается нервный взвизг, полусмех, полурыдание.
Раф последний раз целует ее в челку, закидывает на плечо рюкзак и уходит. Лили-Анн не оборачивается. Слушает знакомый щелчок открывшейся и вновь закрывшейся двери. Он звучит как финальная точка в романе.
Некоторое время она так и стоит, застыв посреди гостиной. Ватное одиночество, окутавшее ее теперь, невыносимо. Лили-Анн чувствует себя парализованной, обреченной на гибель в машине, которая, кувыркаясь на ухабах, летит к пропасти. Она никогда не умела справляться с кризисными ситуациями; эмоции захлестывают ее, увлекают в жуткие глубины собственного воображения, где всё кажется еще хуже. Только Лоре всегда удавалось вытащить ее из этого состояния, когда они были детьми. И Лора же брала на себя разруливание всех семейных бурь. Лора всегда знает, что делать.
Что сделала бы Лора? – спрашивает себя Лили-Анн. И этот простой вопрос проникает сквозь плотную оболочку ее страха, разбивает ее на мелкие осколки. Вот. Лили-Анн поступит в точности так же, как поступила бы ее сестра. Лора сразу поехала к родителям; но будь она здесь, в Париже, как бы она действовала на ее месте?
Родители. Надо узнать хоть что-нибудь о них.
Лили-Анн кидается к компьютеру, ищет на официальном сайте правительства, на сайте посольства Франции в Японии. Самолеты, возвращающие на родину французских граждан, вылетели из Осаки час назад. Прибытие в аэропорт Шарля де Голля во второй половине дня, терминал 2Е. Списка пассажиров нигде нет.
Когда она встает, у нее урчит в животе. Тело напоминает о себе, и это ее успокаивает. Она еще жива.
Она идет в тесную кухоньку, заглядывает в холодильник. С полки на нее смотрят кусочек сыра и три помидора. Лили-Анн морщится. Выйти всё равно надо, она хочет добраться до аэропорта как можно скорее, на всякий случай, вдруг информация ждет ее там; ничего, перекусит что-нибудь по дороге.
– Пока, – шепчет она золотой рыбке, засыпав в банку корма на несколько дней.
Тоже на всякий случай. Так сделает Лора.
В прихожей она косится на свое отражение в зеркале, вытирает пальцем потекшую по щекам тушь и надевает куртку. Выходит из квартиры, бегом спускается с шестого этажа, толкает тяжелую дверь подъезда. Дневной свет сразу бьет в глаза. Небо над головой ослепительной белизны. Сощурившись, Лили-Анн выходит на пустой тротуар.
Выбравшись на бульвар, она понимает, что на улице тоже всё изменилось. Это лишь смутное ощущение, которое она несколько секунд анализирует. На первый взгляд, если не считать чудовищной для этого раннего часа пробки, присутствия повсюду военных и опущенных металлических жалюзи на большинстве магазинов, сегодняшний Париж ничем не отличается от вчерашнего. Но прохожие ведут себя иначе. Одни бегут и ругаются, сталкиваясь в толпе, другие движутся со странной медлительностью, как будто вычисляют точное место отпечатка своей ноги, прежде чем ее поставить. На этой улице в данный конкретный момент было бы неуместно идти в обычном ритме, ибо каждый в глубине души знает, что нормальная жизнь кончилась.