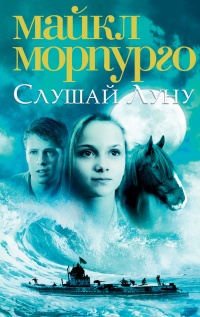Книга В центре Вселенной - Андреас Штайнхёфель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я помотал головой.
– Надо вспомнить, что это твоя жизнь – а значит, и дом твой, и хозяин в нем тоже ты. У тебя есть ключи от всех комнат, Фил. Поэтому ты можешь просто закрыть дверь в эту ужасную комнату.
– И выбросить ключ!
– Нет, вот этого никогда нельзя делать, – очень серьезно ответила она. – Однажды ты почувствуешь, что именно за этой ужасной комнатой находится дверь в другую, более красивую и светлую часть твоего дома. И тогда тебе понадобится ключ. Ты можешь запереть свой страх на какое-то время, но настанет момент, когда тебе придется встретиться с ним лицом к лицу.
– Когда я вырасту, да?
– Вырастешь и перестанешь бояться, мой маленький, – Тереза провела тыльной стороной ладони по моему виску. – И, может быть, будешь уже не один.
Я изо всех сил жаждал увидеть Глэсс в больнице, чтобы собственными глазами убедиться, что она действительно жива. Но поскольку она потеряла много крови и что-то было не в порядке у нее с животом, ей предписали полный покой, и в первые дни к ней в палату могла входить только Тереза – поэтому, несмотря на все ее уверения в том, что самое страшное позади, я все равно никак не мог успокоиться. До сих пор мне казалось, что нет ничего страшнее, чем жить без отца; теперь в кошмарных снах меня стали преследовать мысли о том, каково это – остаться вообще без родителей, ведь если бы Глэсс не пережила преждевременных родов, мы бы с Дианой осиротели. Во мне пробудилось нечто вроде благодарности. Ребенок, братик или сестренка, умер, но Глэсс была все еще жива. Но даже осознание того, что, случись самое худшее, Тереза бы горы свернула для того, чтобы оставить нас у себя, не могло избавить меня от страха потерять мать, который с тех пор так и не ушел. Еще несколько недель после выписки меня посещали зловещие видения, в которых Глэсс погибала тем или иным нелепым образом, но всякий раз в них появлялась запятнанная простыня в руках у Терезы, через которую просачивалась кровь. То мама была одета в нее, как в тогу или сари, то запеленута, как в погребальный саван, то он отвратительным тюрбаном свисал с ее головы.
Тереза делала все возможное, чтобы наше время с ней текло незаметно. Ранним утром третьего или четвертого дня она усадила нас в машину и долго везла в какой-то незнакомый город, чтобы в конце концов упереться в закрытые ворота зоопарка, в который хотела нас повести.
– Зоопарки зимой закрыты, – лаконично произнесла Диана.
Это было первое, что мы услышали от нее со времени той страшной ночи в Визибле. Я облегченно вздохнул. До того момента мне так и не было до конца ясно, потеряла она дар речи от произошедшего или просто не находила слов, чтобы поделиться со мной. Успокаивало только то, что Тереза воспринимала ее молчание как нечто естественное.
– Разумеется, – ответила она и кивнула. – Разумеется, зимой зоопарки закрыты. – Она опустилась на покрытую нетронутым снегом скамейку и зарыдала.
Я хотел было утешить ее, приобнять, но что-то в том, как она плакала, инстинктивно давало понять, что сейчас лучше оставить ее одну. Глэсс никогда не была ей только подругой, а старые чувства не уходят никогда, они лишь меняют свое проявление со временем. Терезе надо было излить свою боль самой. Я смотрел на печально спадающие ей на лицо пряди огненных волос, на маленькие ямки, которые прожигали в снегу ее горячие слезы, и вспоминал ту ненастную ночь, когда мы хоронили ее отца. Вспоминал, как она упала на мокрую, грязную насыпь и рыдала, подняв лицо к небу, пока не выплакала все, и в горле у меня поднимался ком. В этот момент я бы полцарства отдал за пачку мармеладных мишек.
Когда нам с Дианой наконец позволили, хоть и ненадолго, навестить Глэсс, я был настолько вне себя от переживаний, что Тереза пригрозила: если я сейчас же не угомонюсь и не найду себе место, то, прежде чем мы пойдем в больницу, она пойдет в зоомагазин и купит мне поводок. Но чтобы успокоиться, мне достаточно было взглянуть на мать. Бледная и уставшая, Глэсс лежала на кровати в чересчур голой, как мне тогда казалось, комнате, в которой царил навязчивый запах, вызывавший у меня не слишком приятные ассоциации. Она едва нашла в себе силы поздороваться – и, разумеется, была чересчур слаба, чтобы воспротивиться Терезе, заплатившей за отдельную палату и особый уход. Некоторое время мы с Дианой молча сидели на краю кровати; я взял ее ладонь, оказавшуюся на удивление теплой, и сжал ее; и, несмотря на то что на прикосновение мое не было ответа, в тот момент я был счастлив. Глэсс вскоре уснула.
– Она когда-нибудь совсем выздоровеет? – спросила Диана, когда мы вышли из палаты.
– Да. Но на это потребуется некоторое время.
На это потребовалось несколько месяцев, до самого лета. С медицинской точки зрения Глэсс довольно быстро встала на ноги, и уже через десять дней ее выписали, но ее душу как будто завесили черным покрывалом, сбросить которое она медлила и не решалась. Когда наконец последний его краешек сполз и упал, то создавалось впечатление, что Глэсс снова стала прежней, но я к тому времени знал ее слишком хорошо, чтобы понимать: она лишь набралась сил, чтобы просто закрыть глаза и не думать об этом.
С того дня как Глэсс вернулась домой, Диана словно расцвела; она будто светилась изнутри, на ее лице, вот уже не первую неделю неестественно бледном, снова заиграл легкий румянец. Она с любовью заботилась о Глэсс не только как до случившегося, была сама забота, само участие, но и ухаживала за ней как образцовая сиделка, с утра пораньше спускаясь вниз, на остывшую за ночь кухню, чтобы затопить печь, готовила Глэсс еду и целебные ванны, с утра до вечера поила чаем, читала вслух газету и пыталась, пусть и тщетно, хоть как-то ее приободрить.
Спустя какое-то время я был совершенно уверен, что моя сестра – ангел.
– Я поила ее маленькими дозами, в чае, чтобы она не почувствовала, – произносит наконец Диана. – Можно ли было вообще что-то почувствовать, я не знаю. Я сама никогда не пробовала.
Она захлопывает гербарий, водворяет его на причитающееся место и замирает, склонив голову, словно ожидая удара со спины. Ее руки опущены, пальцы цепляются за корешки книг.
– Вот так все просто, – тихо произносит Диана. – Теперь ты знаешь, за что она меня так ненавидит.
– Она тебя не ненавидит. – Мой собственный голос кажется мне чужим. Не знаю, что задело меня глубже – то, что я узнал правду, или то, с какой почти безразличной непосредственностью это было произнесено. Я чувствую себя так, будто меня изнутри выскоблили ножом.
– Нет, Фил, ненавидит, ошибаешься, – Диана оборачивается; я никогда не видел у нее таких потемневших глаз. – Ты не понимаешь? Я ведь могла убить ее! Я же понятия не имела, сколько можно принимать, а сколько уже нельзя!
– Как она догадалась?
– Никак. По крайней мере, не догадалась сама, – она медленно движется к двери на террасу, в которую снаружи ударяет вьюга, стуча по стеклу снегом, словно ячменным зерном. – Как-то раз мы поссорились – вцепились друг в друга, как кошки, а все из-за… Да неважно, из-за чего. Ты был с Гейблом в Греции. Слово за слово, она кричала, размахивала руками… И я, не зная, как себя защитить, сказала ей. Прямо в лицо. Для нее это, конечно, был удар.