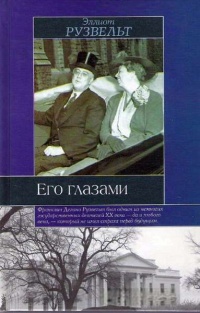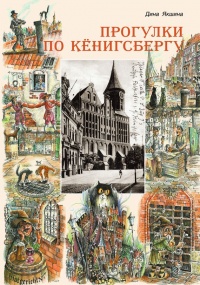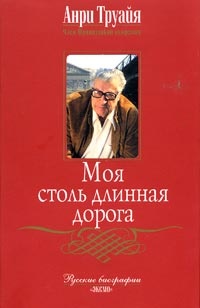Книга Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика - Алейда Ассман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ДЛИННАЯ ТЕНЬ
Двадцать лет назад, когда отзвучали юбилейные речи 1985 года и затих спор историков 1986 года, Кристиан Майер опубликовал убедительную, вдумчиво-критичную работу под названием «Сорок лет после Аушвица»[440]. По прошествии двух десятилетий манифест Кристиана Майера в защиту памяти можно только поддержать. Но с тех пор произошли и перемены, а именно изменилось наше историческое местоположение. Удалились ли мы сегодня от Аушвица? Как смотрит на это молодое поколение? Вот слова человека, родившегося в 1962 году: «“Мы ничего не чувствуем” – такова обескураживающая реальность немецких эмоций по отношению к Холокосту, которую в 2005 году приходится принимать как данность. Время эмоциональной памяти безвозвратно прошло»[441]. Йоахим Ландкаммер ссылается на «неудержимое исчезновение прошлого», подчеркивая, что только «абстрактный идеализм» мешает увидеть реальность того, как время усиливает прогрессирующую эрозию памяти. Он называет «фактор времени» и «неудержимо увеличивающуюся дистанцию» наиболее эффективными формами преодоления немецкого прошлого[442].
Впрочем, подобные утверждения опровергаются тем обстоятельством, что за истекшие два десятилетия возник национальный и транснациональный «мемориальный ландшафт», а Холокост сделался центральным ориентиром для общего исторического сознания, по крайней мере в западноевропейских странах. События, которые двадцать лет назад являлись предметом живой памяти, – а потому, в сущности, от индивидуальной готовности отдельного человека зависело его желание или нежелание вспоминать о них, – ныне вошли в потенциально весьма долгосрочную культурную память, привязавшую эти воспоминания к разнообразным формам и многочисленным локализациям. Долгий марш гражданских инициатив, начавшийся на исходе 1980-х годов и преодолевший множество препятствий, завершился в 2005 году созданием в Берлине и под эгидой германского правительства центрального мемориала, посвященного Холокосту. Но что оказалось потерянным на этом долгом пути? Прав ли Йоахим Ландкаммер, утверждающий, что при превращении коммуникативной памяти в память культурную якобы произошла утрата эмоционального восприятия истории? Не трансформировалась ли культура памяти, тесно связанная с гражданской ангажированностью поколения 1968 года, в абстрактную историческую политику?
Тезис о неэмоциональном отношении к истории национал-социализма, похоже, выдает желаемое за действительное. Как мы могли убедиться, не только в Германии, но и повсюду в мире так называемый «memory boom» принес с собой значительное усиление эмоционального восприятия истории. История вышла за пределы узкого горизонта, актуального исключительно для профессиональных историков, чтобы во все большей мере стать темой дискуссий в СМИ, музейных и выставочных экспозиций, автобиографий и семейных романов, видеопродукции и художественных инсталляций, а также документальных шоу и игровых фильмов, что и обусловило усиление эмоционального восприятия истории. Возможно, растут группы тех людей, которых история не интересует, но это отнюдь не означает, что горячие зоны истории сделались холодными. Неверно предполагать, будто немецкая нация в качестве носителя коллективной памяти представляет собой единое целое; к памяти всегда обращаются одиночки или группы, рассеянные в обществе по разным поколениям и социальным слоям.
Судя по манифесту Кристиана Майера, спустя двадцать лет Аушвиц для нас все еще не слишком далек, однако ныне мы воспринимаем Холокост в несравненно большей мере через призму СМИ. Мы уже не воспринимаем его как чистый опыт, ибо он всегда предстает перед нами в тех или иных формах репрезентации и актуализации. Мы оказываемся не лицом к лицу с этой непостижимой катастрофой, ибо являемся частью мира, для которого память о ней приобрела основополагающее значение. Воспоминание носит характер репрезентации и презентации, то есть оно всегда опосредовано и сформировано. Коммуницируются не сами непосредственные переживания, а результат их воплощения в вербальной или визуальной форме; и реагируем мы не на сами исторические факты, а на преподнесение, интерпретацию и оценку фактов. Поэтому данная книга и обращается к уровню медиализации как основе для проработки и дальнейшего развития исторической памяти.
Не случайно в подзаголовке этой книги названы два понятия, характеризующие уровень опосредованного обращения к прошлому: мемориальная культура и историческая политика. Взаимно пересекаясь, они охватывают широкий спектр разнообразных явлений – от неформальных, переменчивых и гетерогенных до стабильных и институционализированных форм памяти. Политологи Клаус Леггеви и Кристиан Майер ввели понятие «историческая политика», чтобы отделить собственные исследования от работ общегуманитарной и культурологической направленности, относящихся к теме «мемориальной культуры» (примером чего может служить гизеновский исследовательский проект)[443]. Говоря об «исторической политике», оба политолога подразумевают те аспекты, которые обычно игнорируются гуманитарными исследованиями: это вопросы организации, финансирования, управления, бюрократии и прежде всего процессы принятия политических решений, которыми определяются «мемориальные структуры и их работа, особенно в современном плюралистическом обществе, где мысли и воспоминания не декретируются сверху, а являются результатом самостоятельной рефлексии»[444].
Понятия «мемориальная культура» и «историческая политика» нередко противопоставляются друг другу. При этом «мемориальная культура» приобретает положительный смысл, предполагая идущий снизу, независимый, гражданский характер обращения с памятью, а «историческая политика» ассоциируется со спускаемой сверху директивностью, принудительно гомогенным характером памяти. Подобное противопоставление, как показала Ютта Шеррер, вполне применимо для описания ситуации в России. Здесь мы имеем дело с государственной директивной исторической политикой, которая ориентирована на внутреннюю консолидацию и на «представление России в качестве великой державы»; ей противостоит независимая и подвергающаяся все большему давлению общественная организация «Мемориал», которая занимается проблемными воспоминаниями, изучая сталинский террор[445].
Зачастую под «мемориальной культурой» понимается совокупность форм и средств культурной мнемотехники, с помощью которой группы или культуры выстраивают собственную коллективную идентичность и свою ориентацию во времени, а «историческая политика» отождествляется с «инструментализацией прошлого». Понятие «инструментализации» не является аналитическим, оно полемично и маркирует желание автоматически дистанцироваться от того, что считается «инструментализованным». Питер Новик критически отнесся к подобному употреблению этого понятия, указав, что не существует коллективных воспоминаний без их инструментализации. Ведь коллективные воспоминания избирательны, они оформляются тем или иным образом, с их помощью всегда преследуются определенные цели во имя настоящего или будущего[446]. Воспоминания обеспечивают легитимность, создают чувство общности, служат основой для более или менее критичного представления коллектива о самом себе и не в последнюю очередь препятствуют появлению иных воспоминаний. Поэтому неверно диффамировать какие-то формы использования воспоминаний как их «инструментализацию»; правильнее говорить о специфических злоупотреблениях воспоминаниями.