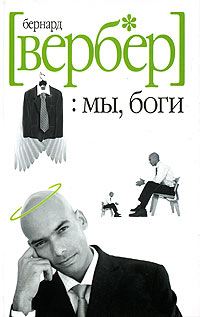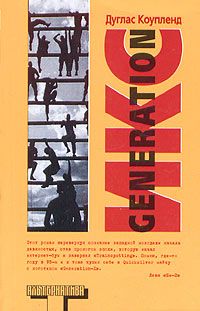Книга Производственный роман (повес-с-ть) - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Скажи, дядя Кальман, ты добровольно брался за определенные задания, или начальник пресс-службы премьер-министра Арпад Берчик приказывал?» Так, с места в карьер! Фантастика! Господин Миксат еще не допил пиво. Аккуратно пил, тыльной стороной ладони вытирал усы. До тех пор на них, как иней, белела пена. «Добровольно. Я чувствовал, что это правильно. Я верил в это». — «Не грузи, дядя Кальман. Все прямо верили?» — «Многие». Старик мечтательно прихлебывал. Теперь их разделяло большее; диалога как будто бы и не было. «Очень многие», — «Да, но дядя Кальман», — мастер гневно, нетерпеливо всплеснул в воздухе руками. (Только теперь ясно, как ему повезло с тем, что кружка поставлена на стойку.) Старик только бурчал про себя, вроде говоря что-то, а вроде и нет. «У нас с этим так, не умеем мы об этом рассказывать так же, как не может человек говорить о первой ночи любви». — «Да, но, дядя Кальман, так то-то и оно! У невесты яйца между ног!» Господин Миксат редко смотрел мастеру в глаза; однако теперь взглянул. И сколько всего отражалось в паре подернутых пеленой карих глаз: великое знание, почем фунт лиха. «Большой ты мамелюк, старик», — молодечески сказал мастер. Кальман Миксат отвернулся. «Брань на вороту не виснет».
Мастер вспыхнул безудержным гневом. (Потому что так чувствителен он именно к словам, к злоупотреблению ими. От этого он приходит в крайнее уныние. «Сыто рассиживать и врать, друг мой, — наихудший вариант». На эту тему добрый человек любил говорить также следующее: «Друг мой, грамматика аморальна». И если у него очень плохое настроение, добавляет: «Kultur ist Parodie[61]«. В полную силу может это прочувствовать он.) Предки-куруцы схлестнулись в нем с предками лабанцами (потому что среди Эстерхази полно и тех и других), толедский клинок с выпрямленной косой, его глаза блестели, был он знаменем, которое можно развернуть, и древком; это поддается дефиниции. Кальман Миксат в возбуждение не пришел. Он сделал господину Дьердю знак рукой: еще пива. «Хорошая у вас тяга, батя», — засмеялся великий шинкарь. Внимательная неподвижность господина Миксата охладила пыл творца этого столетия. «Знаешь, сынок, пусть смелыми будут твои куруцы, а не писатель». (Да ведь и мастер не хотел быть ни смелым, ни несмелым.)
В кабаке появился худенький белобрысый мальчонка, за собой на веревочке он тянул маленькое пианино. Подошел прямо к шинкарю, спросил что-то, однако тот отрицательно покачал головой. Завсегдатаи сидели за столами и пили — не много, но постоянно. «Отца ищешь, а?!» Но даже не подняли головы от карт. Это не было новостью: за некоторыми из них вот-вот придут, за другими никто и никогда.
Мастер с жаром публициста продолжал допытываться. «Да, но, дядя Кальман, определенные признаки все же подозрительны…» — «Оставь ты меня в покое. Не те уже мои годы… Память портится». — «Это хорошо, рассыпающаяся память — то, что надо!» — трещал мастер, о котором ходила слава великого гурмана. Господин Дьердь замахал руками: пусть потише веселятся, мать у меня болеет, бедняжка. (Однако затем ее самочувствие улучшилось.) Господин Миксат пожимал плечами. Наверное, ему многое вспоминалось. «О, новая страна, новая жизнь, новые иллюзии!» — Боже правый, я могу прикусить губу; и напомнить мастеру о множестве положительных судеб, которым это ироническое предложеньице навредило. «Если я не обижаюсь…» — сказал он с небережной молодцеватостью. Я напомнил мастеру его собственную ситуацию, мало того, изволил заметить, что, может быть, он в конце концов, подходя с точки зрения истории, все-таки эдакий милый (не милорд, ха-ха-ха!) кукушонок в мягоньком гнездышке социализма. Конечно, полезный, порядочный кукушонок. «Эй ты, ты, кукушка, ну, твою мать!» — завопил он легко, элегантно. Итак, после того как он эффектно отразил наставленные на него, через мое посредничество, скользкие рапиры, вновь стал доставать господина Миксата. Кое-что еще хотелось знать ему, и кое-что считать он изволил неправильным. «Здесь взятки гладки, друг мой».
Между тем господин Дьердь работал вовсю. Его любили гости; жаль, что господин Дьердь так над ними возвышался. Он давал им то, чего они ожидали, — даже если в порции по пятьдесят и двести граммов и недоливал: с женщинами, какими бы замухрышками они ни были, заигрывал, с мужчинами вел себя по-мужски. Только… Все равно: в господине Дьсрде была «душевная теплота». «Дьюрика, вина с газировкой». Клиент заметил мастера. «Привет, Петике. Ты здесь? Наконец-то встал на правильный путь». Они засмеялись, мастер и малейшего понятия не имел, кто тот человек, с кем он разговаривает. «Выиграете в воскресенье?» — «Выиграем». — «На прошлой неделе ты тоже так говорил». — «и выиграли?» — «Нет». — «Ну вот».
Господин Миксат отодвигался дальше, к игровому автомату. Мастер следовал за ним. Ох уж это непрошенное панибратство и оптимистичный цинизм! Мастер осторожно пошел в наступление. «Ты был писателем мрачной, переходной эпохи». Господин Миксат кивнул; на это? или на новую бесплатную игру короля игровых автоматов? «Конечно, в те бедственные времена…» Но здесь мастер переборщил. «Запомни, сынуля, времена всегда бедственные». Господин Миксат сосредоточил все внимание на скачущем туда-сюда шарике.
«Говорят, дядя Кальман, что по молодости было в тебе какое-то милое мужество, какая-то нравственная сила, которая ощущалась в твоих словах». Они стояли позади короля игральных автоматов, так что мастер шептал: «Конечно… я понимаю… великие эпохи рождают героические характеры, а немые годы неподвижности разъедают железо характера». — «Видите, mon ami, это чепуха. (А ведь он это сказал. — Э.) Движение относительно; вопрос системы координат, до поры до времени. Не существует неподвижной эпохи, если существую я!» — и опьяненным успехом взором он посмотрел перед собой. Мастер, пардон, слегка подлизывался к господину Миксату. Он хотел выманить зверя из норы. «Друг мой! Дичь!.. Да ну ее к черту! Только жрут и толстеют». А белый соус? Однако напрасно это ехидство.
«Дядя Кальман, прошу тебя, скажи, ведь я смело могу надеяться, что в тебе, благодаря тебе можно было выявить разницу между мелочным, упадническим культом своего «я» в загнивающем буржуазном мире и гордым самосознанием тех, кого захватил героический пафос освободительного демократического движения. Твоя, дядя Кальман, тяга к джентри[62]никогда не означала отождествления с ними». Мастер довольно потер ручки с обгрызенными ногтями. «Знаете, друг мой, этот роман повредил моим ногтям». (Это сейчас — роман, но холодный страх детства, всхлипывание в темноте, зарывание головой в подушку, сбивание простыни, сжатая в кулак рука, — все это уже с давних пор вело к тому, что мастер не стал перлом маникюрного мастерства.) Но повернулся только король игровых автоматов. «Сотня?» — «Что-что?» Из этого король игровых автоматов мгновенно понял, что мастеру игра мало знакома и стал его подзуживать. Однако он не изволил поддаваться подзуживанию. Господин Миксат сопел, возился. Затем неторопливо и обдуманно было произнесено веское слово.
«Чего ты хочешь?» Господин Миксат обернулся, прямо бывалый развозчик пива. Мастер вновь что-то понял, бедняга. Однако для их усмирения вырос господин Дьердь: «Ну, ну, не надо, ну, ну, сладкий мой». Защищал он всех. «Тяжело, сынок, быть венгерским писателем». Господин Миксат примирительно смотрел. Но мастеру все еще чего-то было надо.