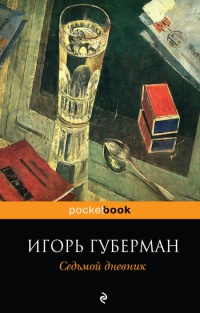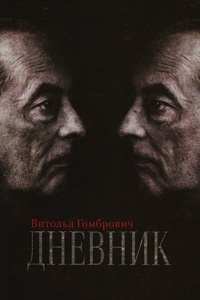Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И еще у меня это всегда рифмовалось с другим возвращением — после войны с Наполеоном. Счастливые, молодые, победители. Будущие декабристы. И тогда, и через сто с лишним лет с одной надеждой — теперь все будет по-другому.
Надежда не оправдалась. Собственно, именно это и было зашифрованным смыслом придуманного — или приснившегося — любимого эпизода.
“Вслед за конниками, в колонне машин, медленно двигался открытый «виллис». Рядом с водителем сидел краснолицый, темноволосый полковник с фляжкой в руке. Сзади помещался Филиппок, в гимнастерке, с орденом Красной Звезды, медалями и двумя нашивками за ранения.
Машина свернула с Арбата в переулок и затормозила у большого серого дома.
— Вы понимаете, капитан, что произошло? — вдруг серьезно сказал полковник. — Кончилось. Все кончилось. И теперь все пойдет по-другому. Вот так-то! Ну, привет жинке.
— А у меня нет жинки, — сказал Филиппок.
Он вышел из машины. Полковник протянул ему флягу, потом выпил сам. Встал, обнял Филиппка, поцеловал и сказал:
— Пока, солдат”.
Надежды не оправдались и у нас. На ленинградских улицах снимать этот эпизод было невозможно, мы это понимали. Но так привыкли к нему, что отказаться от него — от этих слов — казалось тоже невозможным.
В тоске сидели у Ильи. Вдруг он сказал:
— Давай позвоним Лёшке. Он все знает про это.
Герман только что закончил “Двадцать дней без войны”. Мы уже посмотрели и каждый день — еще и с Арановичем — говорили о картине, обсуждали и восторгались — в целом и по частям. Режиссер Герман очень много значил для этих двух режиссеров. И для меня.
А для Ильи вообще самым трудным и нелюбимым было — снимать войну.
Он набрал телефон Алёши и объяснил ему наше положение.
Пять или десять минут на размышление попросил Алёша? И потом позвонил. И “выдал” эпизод. Который и был снят. Пожалуй, только Герман, мгновенно, как факир, мог достать кино из своих драгоценных запасов, таких живых и ярких, как будто бы он делал их сам — на великой войне.
Военный аэродром. Подлетает “дуглас”. Подъезжает большая трофейная машина, “хорхь”, кажется. Два офицера выносят из нее стол, накрытый белой скатеркой и уже с закуской, ставят на него водку, шампанское. Молодуха в красном берете играет на аккордеоне встречную музыку, марш.
“Дуглас” сел. Из него, счастливо улыбаясь, лезут офицеры и их ППЖ. С ними полковник и Филиппок. Объятия, поцелуи, кружатся в вальсе. Филиппок, один, скромно уходит по полю. Полковник догоняет его — с водкой, чокается и говорит всё те же — важные для нас — слова, что и на Арбате: “Кончилось. Все кончилось. И теперь все пойдет по-другому”.
Снято и сыграно это гораздо лучше, чем сейчас мной рассказано.
Однако этот удар был ничто по сравнению с тем, что ожидало нас, когда картина была готова и когда начальство должно было ее обсуждать и принимать. Или не принимать. А кто из нас тогда не ожидал именно этот вариант?
Драматургия того периода нашей жизни и судьбы картины восхитительна своей совершенной неожиданностью и решительными поворотами. Во-первых, вопреки всем законам она началась сразу же со счастливого конца. Таких восторженных слов от редактуры Госкино я не слышал больше никогда — ни до, ни после. Даже был намек на возможность Государственной премии. Конечно же — и это самое удивительное — главным дирижером послушного хора похвал был сам Павленок, первый заместитель министра.
Счастливые, мы шли с Ильей пешком с Гнездниковского на Васильевскую. В ресторане нас, волнуясь неизвестностью, ждали Наташа Рязанцева и Володя Валуцкий. Мы им рассказали — они не поверили.
И правильно сделали.
Монтаж. Титр: “Прошло две недели”.
Тот же кабинет Павленка, те же персонажи — редактура — за большим столом для совещаний. Но уже говорят они — к нашему изумлению — всё резко противоположное отзывам двухнедельной давности. А Павленок так возмущен картиной, что решительно встает со своего председательского места — он спешит в ЦК — и больше ничего не хочет обсуждать. Картина не принята. Надевая возле вешалки пальто, бросает брезгливо:
— Если бы я встретил вашего Филиппка на фронте…
В ресторан на этот раз мы с Ильей не пошли.
Монтаж. Флешбэк. Смольный. Горком КПСС. Кинозал.
Главное действующее лицо — бывший счетовод колхоза “Первое мая”, а ныне Первый секретарь горкома Борис Иванович Аристов. Смотрит наше кино — так тогда полагалось в Ленинграде. Авербах не приглашен.
Разгневанный, выходит из кинозала, идет в свой кабинет, звонит Председателю Госкино Филиппу Тимофеевичу Ермашу. Тот немедленно вызывает Павленка. Тот сразу же собирает редакторов, и они вызывают нас.
И ведь от чего порой зависит судьба — как от знаменитой бабочки Бредбери! На другой день после просмотра Аристова, которого так разгневал наш герой, жалкий интеллигентишка, — снимают. И он, как написала бы Надежда Яковлевна Мандельштам, “планирует” в Варшаву — послом.
А если бы просмотр в горкоме был назначен на день позже? Ах, это вечное — если бы да кабы! Грибы во рту не растут. Бабочка попала под сапог.
Павленком дело не ограничилось. Вызывают к министру. Для прикрытия зовем с собой Габриловича. Старик замечательный товарищ — ведь мог и не пойти.
Я первый раз у министра. И это даже вызывает у меня некоторую гордость и самодовольство. “В последний раз, когда я был у Ермаша…”
Министр милостиво вежлив и приятен в обращении. Особенно с главным советским сценаристом. Но постепенно, заглядывая в бумажку, обрушивает на нас поток замечаний — то возмущенных, то иронических.
— А уж крымский татарин для чего вам понадобился?
Господи! Какой еще татарин? А вот какой! Полуразличимый, он — секунды две на экране — везет Филиппка в телеге на пляж в Коктебеле. И на нем, к нашему несчастью, тюбетейка!
— И как он углядел эту чертову тюбетейку? — потом мрачно удивляемся мы с Авербахом в кабинете Главного редактора Даля Орлова, где получаем сорок пять поправок. Сорок пять!
— На то он и министр! — с восторженным трепетом отвечает Даль Орлов.
А министр особенно беспокоится по поводу татарина. Но, слегка третируя нас с Авербахом, словно малолетних шалунов, обращается к Габриловичу, старому и мудрому и, как он считает, политически подкованному:
— Вы-то знаете, Евгений Иосифович, какой злобный вой поднят “голосами” по поводу Джемилева и всей этой высосанной из пальца проблемы!
— Что вы говорите! Не может быть, — в изумлении ужасается старик, который, начиная с 45-го года, каждый вечер исправно слушает “Голос Америки”.
С невинным татарином было легко — дело одной “склейки”. Гораздо хуже и тяжелее было с эпизодом второй командировки Филиппка. У нас он проходил как “эпизод с Мандельштамом”.