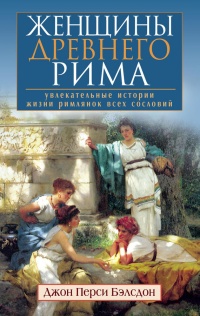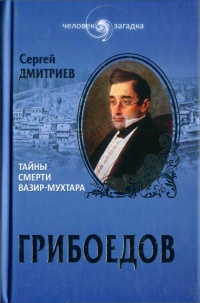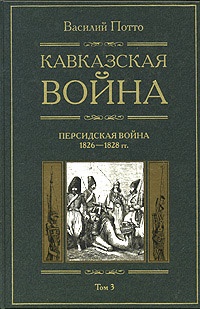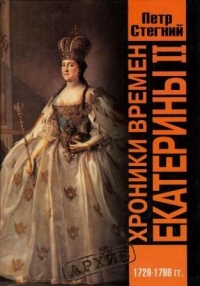Книга Мария Волконская - Михаил Филин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Удаление от супруга для нее в принципе все же возможно, если мотивы этого удаления этически корректны. В последующие сибирские годы, как мы увидим, Мария Николаевна не раз руководствовалась на практике именно такими соображениями.
Минули сутки после встречи с Сергеем Волконским. Она решила посмотреть на «место, где работает муж», — и действительно оказалась в подземелье:
«Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудник; я спросила, можно ли их видеть на работе; этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто в роде факела, и я, в сопровождении другого, старшего, решилась спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но спертый воздух давил грудь; я шла быстро и услышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который не хотел мне позволить говорить с ссыльными. Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они спустили мне лестницу, я взлезла по ней, ее втащили — и, таким образом, я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия из России и передать привезенные мною письма[498]. С тех пор было строго запрещено впускать нас в шахты. Артамон Муравьев назвал эту сцену моим „сошествием в ад“»[499].
Так началась оседлая сибирская жизнь жены государственного преступника Марии Волконской.
Она не имела обыкновения жаловаться, и все же однажды (в письме к свекрови) у княгини вырвалось похожее на стон признание: «Милая матушка, какое мужество надо иметь, чтобы жить в этой стране! счастье для вас, что нам запрещено писать вам об этом открыто»[500].
Повезло, что рядом, в той же кренящейся набок и врастающей в землю, в два окна, избе, ютилась ее наперсница — Каташа Трубецкая. Вдвоем княгиням было чуть легче переносить выпавшие на их долю испытания. «Положение их было страшное — вспоминал А. Е. Розен. — Собственные их переписки при расстоянии 7000 верст шли медленно; родственники сначала не знали, куда обратиться для высылки денег — к дежурному генералу Потапову или к A. X. Бенкендорфу, оттого в первое время терпели недостаток и подверглись многим лишениям не только от местной скудости, но и от недостатка в деньгах; довольно сказать, что они терпели зимою 1826 года и от холода и от голода. Странным показалось бы, если бы я вздумал подробно описать, как они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом, когда страдания их были гораздо важнее и другого рода, когда видели мужей своих за работою в подземелье, под властью грубого и дерзкого начальства»[501].
Немудрено, что в тогдашних письмах в Россию княгиня не раз высказывала различные пожелания. То она нуждалась в «роговых вилках, а также и ложках», то умоляла прислать «банки и искусственные пиявки», то еще что-нибудь в этаком духе. Однажды она даже обратилась к свекрови с просьбой снабдить ее «английским портером», так как здоровье мужа требовало «укрепляющих средств»[502].
Портер был для Марии в Благодатске много важнее, нежели, допустим, шедшая где-то война русских с настырными персами.
В ее мемуарах более чем скромное житье-бытье подруг в первую забайкальскую зиму описано следующим образом: «…У нас не хватало денег; я привезла с собою всего 700 рублей ассигнациями; остальные же деньги находились в руках губернатора. У Каташи не оставалось больше ничего. Мы ограничили свою пищу: суп и каша, вот наш обыденный стол; ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом. За таким ужином застал ее один из сторожей тюрьмы и передал об этом ее мужу. Мы имели обыкновение посылать обед нашим; надо было чинить их белье. Как сейчас вижу перед собой Каташу с поваренной книгой в руках, готовящую для них кушанья и подливы. Как только они узнали о нашем стесненном положении, они отказались от нашего обеда; тюремные солдаты, все добрые люди, стали на них готовить. Это было весьма кстати, так как наши девушки стали очень упрямиться, не хотели нам ни в чем помогать и начали себя дурно вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками. Начальство вмешалось и потребовало их удаления»[503].
То же бдительное начальство зафиксировало в заводских ведомостях, что с приездом на рудник жен «Сергей Трубецкой и Сергей Волконский сделались примерно веселы»[504].
Более полугода довелось прожить двум княгиням в Благодатске. Круг их здешних забот был весьма обширен. Благодаря приехавшим женщинам наладилась переписка декабристов с их родственниками. «Не имея разрешения писать, они были лишены известий о своих, а равно и всякой денежной помощи, — вспоминала Мария Волконская. — Мы за них писали, и с той поры они стали получать письма и посылки»[505].
Е. П. Оболенский спустя три десятилетия отозвался о Трубецкой и Волконской так: «Прибытие этих двух высоких женщин, русских по сердцу, высоких по характеру, благодетельно подействовало на нас всех, с их прибытием у нас составилась семья»[506].
Как могли помогали они и другим благодатским заключенным — уголовникам. Так, однажды Мария купила холста и заказала изготовить белье для каторжников из простонародья — за что получила порицание от Бурнашева. Зато дамская благотворительность была высоко оценена лицами «подлого сословия». «Нас узнавали издали и подходили к нам с почтением», — сообщала Волконская[507].
В мемуарах она поместила и романтическую, слегка идеализированную историю о «известном разбойнике Орлове, своего рода герое»: «Он никогда не нападал на людей бедных, а только на купцов и в особенности на чиновников; он даже доставил себе удовольствие некоторых из них высечь»[508]. Княгиня восхищалась пением этого арестанта, доносившимся из-за стен тюрьмы, материально поддерживала его, а когда Орлов исхитрился бежать из-под стражи, то фактически превратилась в сообщницу беглеца и передала преступнику через его товарища деньги. Позднее, в ходе следствия по делу о побеге, никто из каторжан так и не выдал Волконскую начальству. «Сколько чувства благодарности и преданности в этих людях, которых мне представляли как извергов!»[509] — умилялась Мария Николаевна.