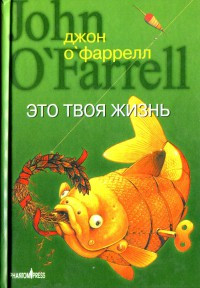Книга Уготован покой... - Амос Оз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я хотел бы вновь написать здесь то, что писал вчера и позавчера и наверняка напишу завтра.
Я ничего не понимаю. Великим мудрецом я никогда не был. Все это вещи непонятные.
Сейчас десять часов вечера. Эйтан Р. дежурит у телефона. Азария с Римоной отправились навестить Иолека. Возможно, Азария дает ему сольный концерт на гитаре. В этом мире все возможно. От Иони нет никаких известий. Завтра я обращусь в полицию. Завтра я обращусь и к Чупке, пусть он и его товарищи попытаются разыскать блудного сына.
Хава Лифшиц сидит у меня. Приготовила чай для двоих. Принесла мне меду, потому что горло мое пылает. Сидит она на моей постели. Мы слушаем музыку. И на этот раз — Брамс. Долгие-долгие годы ни одна женщина не переступала порога моей комнаты в столь позднее время.
Приведу здесь еще один отрывок из книги о птицах: «В течение долгого перелета птицы потребляют огромное количество жира, накопленного в их теле. Точно так же зимней ночью маленькая птичка должна использовать большую часть накопленного жира лишь для того, чтобы сохранить температуру тела до наступления утра».
Вот так.
На сегодня хватит. Прервусь на этом месте.
Пятница, 5 марта 1966.
Сейчас вечер. Возобновились дожди. В столовой собрались немногочисленные слушатели, пришедшие на лекцию о фольклоре евреев — уроженцев Йемена. Читает ее приглашенный лектор. От Ионатана нет никаких известий.
Утром в полиции мне строго попеняли за то, что я обратился к ним с опозданием. Что взял на себя тяжелую ответственность. Полиция принялась за розыски, но пока никаких новостей нет. Чупка тоже побывал здесь, настороженно выслушал все, что я ему рассказал, выпил две чашки черного кофе в комнате Уди Шнеура, произнес не более десятка слов и уехал, ничего не пообещав. В полдень пришла телеграмма из Майами: Троцкий намерен прибыть к нам немедленно, возможно уже на следующей неделе.
Сегодня днем была у меня странная беседа с Римоной. Не думает ли она, что, когда Иони вернется целым и невредимым, как мы все надеемся… как бы это сказать… не лучше ли, чтобы Азария находился на собственном месте?
— Но ведь у меня есть место для обоих. И они оба любят. И я тоже. Обоих.
Понимает ли она, каковы возможные последствия? Она улыбается и отвечает мне вопросом:
— Каковы же последствия?
Я смущен и немного растерян. Возможно, причиной тому ее красота. А возможно, я не подхожу для этой должности.
К примеру, я не смог собраться с духом, чтобы пойти и навестить Иолека. Сегодня я у него не был. Слышал, что врач нашел у него некоторое улучшение. Рассказывают, что Азария вновь проводит много времени с Иолеком: играет, философствует, спорит о политике, право, не знаю, что там еще. Да и требует ли моя должность, чтобы я знал все?
Кроме того, я болен. Высокая температура, озноб, кашель, сильные боли в ушах, туман в глазах. Хава ухаживает за мной. Требует, чтобы я не носился по кибуцу: ничего не случится с этим мерзавцем Сточником, если потрудится он за меня денек-другой. А в воскресенье появится Троцкий. Или в понедельник. Или во вторник. Либо не появится вовсе.
По собственной инициативе этим вечером я решил довести до сведения главы правительства Израиля Леви Эшкола, что сын Иолека уехал, не оставив никакого сообщения, и мы все озабочены состоянием Иолека. Буду писать кратко, поскольку болен. Даже кровь из носа идет. Кошмарные видения настигают меня, стоит сомкнуть глаза: Ионатан, возможно, попал в беду. А мы почти ничего не сделали.
Исход субботы. Полночь.
Иони не подает голоса. И полиция ничего не сообщает. И прославленный Чупка молчит. Глава правительства позвонил под вечер и беседовал с Иолеком. Обещал всяческую помощь. Возможно, через день-два приедет с кратким визитом.
Весь день я провел в постели, температура под сорок, досаждают боли. Вечером, в мое отсутствие, общее собрание кибуца избрало меня секретарем. Пришел Сточник и с помпой объявил, что на собрании обо мне говорили только хорошее. Расточали всяческие комплименты и проголосовали почти единогласно.
Хава большую часть времени молчит. Она знает о телеграмме из Майами. И Иолек тоже знает. Молчат. Мне кажется, что со вчерашнего дня они не разговаривают друг с другом. Любезнейший Сточник рассказал мне, что Римона и этот парень замечательно ухаживают за Иолеком. А Хава остается у меня допоздна. Ухаживает за мной, разболевшимся. Я совершенно растерян: все время представляю себе Иони, блуждающего в полях, на окраине Хайфы, в пустыне, на центральной автобусной станции. А возможно, он уже за морем. Видения мои полны мельчайших подробностей. Сердце подсказывает мне, что несчастья не произошло. И я без колебаний заверяю в этом Хаву. На каком основании? Я и сам не знаю. Я не знаю, почему сейчас, оторвавшись от записей в дневнике, сказал Хаве, что Римона беременна и отец — один из этих двоих. Неужели я повредился в уме? Секретарь кибуца. Ведь это ужасная ошибка. Снова сильно поднялась температура. Наверно, это нехорошо — сидеть и продолжать вести дневниковые записи. Я самому себе не доверяю. Все сложно и странно. Ничего я не понимаю. Но ведь об этом я уже писал не однажды.
Но что же это такое, в конце концов, чары Чада? Может быть, это когда ты великолепным, ясным зимним днем проводишь несколько часов кряду в каком-нибудь кафе или ресторане на одной из улиц Беэр-Шевы? Сидишь, отрешившись от размышлений. Заказываешь бутылку содовой. Бутерброд с яйцом и бутерброд с сыром. И кофе по-турецки. И еще одну бутылку содовой. Пребываешь в одиночестве. И спокойствии. У ног твоих, под столом, все твое снаряжение — выгоревший рюкзак. И оружие. И фляга, купленная здесь, в военторге. И спальный мешок, который ты без колебаний взял из горы таких же пропыленных мешков, сброшенных шумными солдатами у армейского грузовика на главной улице. Просто взял и преспокойно исчез: какая теперь разница? Мешком больше, мешком меньше. Устроятся. Потому что теперь все устроится.
Он сидит, вытянув ноги. Смотрит на мужчин и женщин, входящих и выходящих в дверь, которая почти никогда не закрывается. Пьют, едят, разговаривают во весь голос. И уходят. И приходят другие. Он отрешился от размышлений. Отдыхает, как Тия. Свободен и спокоен. Тут тебя никто не знает. И ты никого не знаешь. Но вместе с тем ты похож на всех — усталые, заросшие щетиной мужчины в брезентовых куртках, в армейских ботинках, вернувшиеся из пустыни. Солдатское снаряжение лежит у их ног. Солдаты в хаки. Фермеры в хаки. Рабочие из карьеров, строители дорог, землеустроители, путешественники. В потрепанных куртках. Со слезящимися от пыли глазами. Серой пылью пустыни припорошены их лица и волосы. И почти все носят с собой оружие. Все они — и ты среди них, — без сомнения, принадлежат к одному особому племени, и племя это, по всей видимости, страдает от хронического недосыпания… И какое огромное облегчение — никогда за всю твою жизнь не удавалось тебе побывать там, где не может высмотреть тебя зоркое око соглядатая. Ощущать себя всем чужим. Ускользнуть наконец-то от их радаров: ведь в целом мире нет ни одной живой души, которой было бы известно, где я нахожусь в данную минуту. Со дня рождения и до нынешнего утра не было в твоей жизни ни одного мгновения, когда бы они не знали, где ты находишься. Будто ты всего лишь маленький флажок на карте их военных действий.