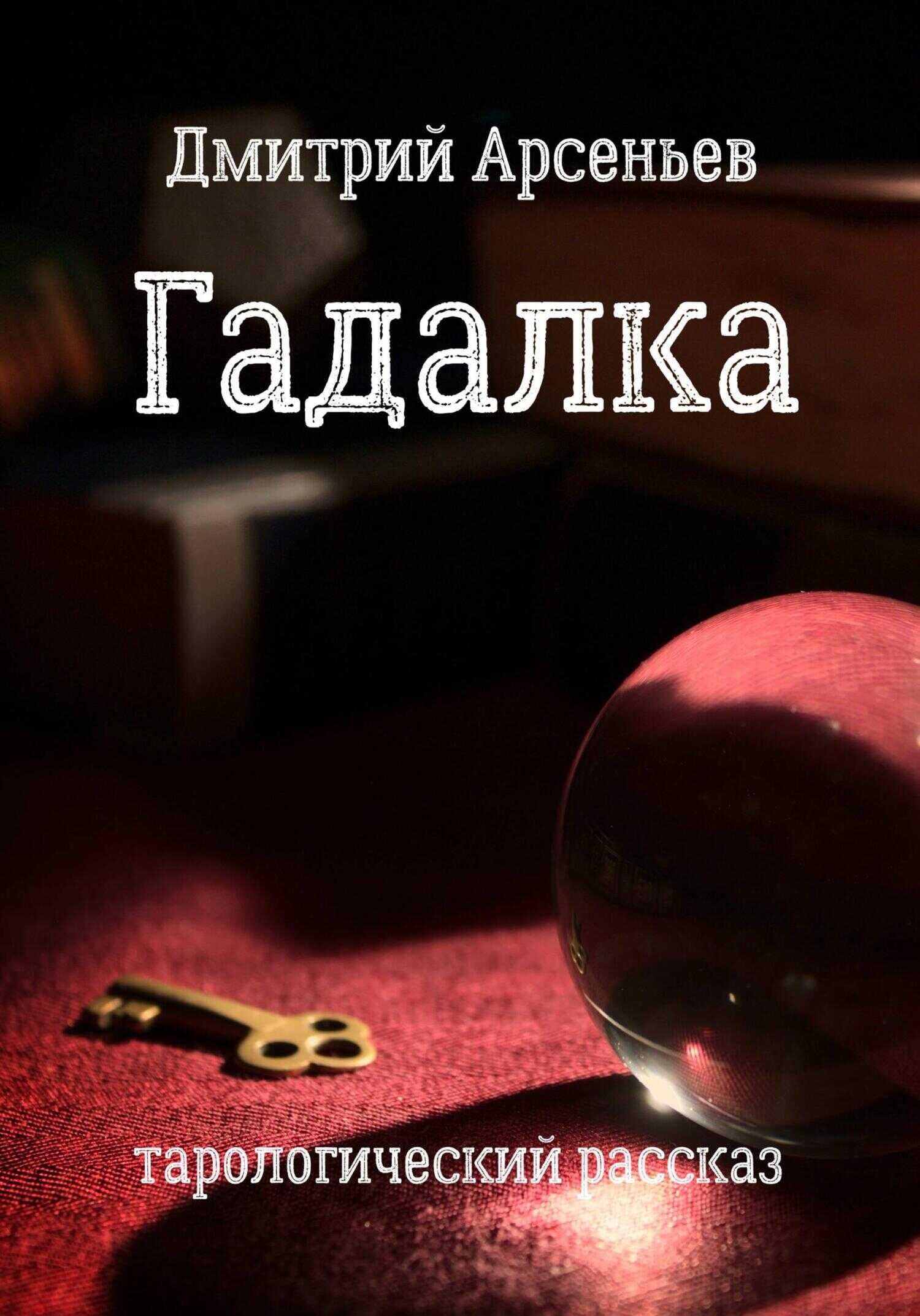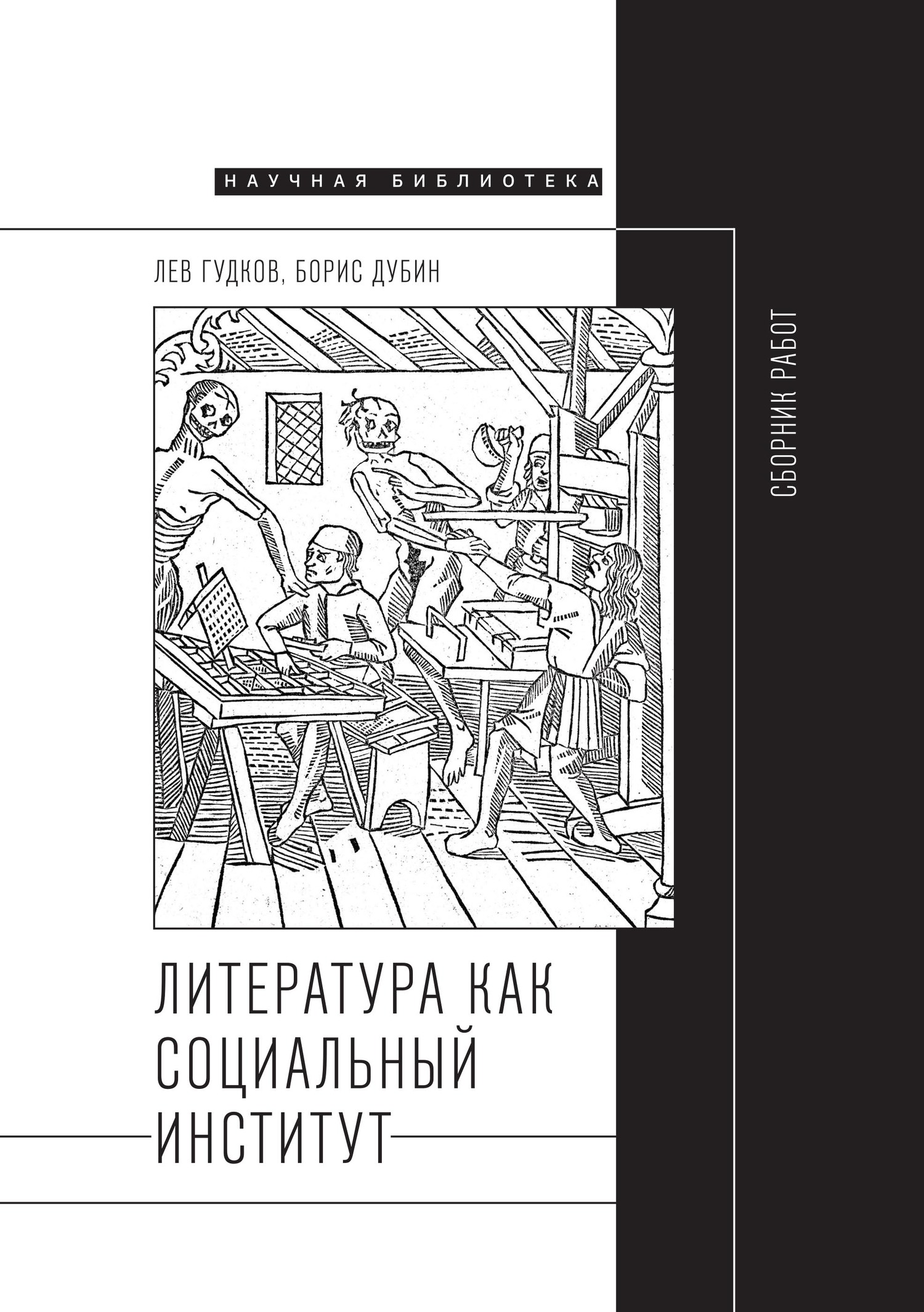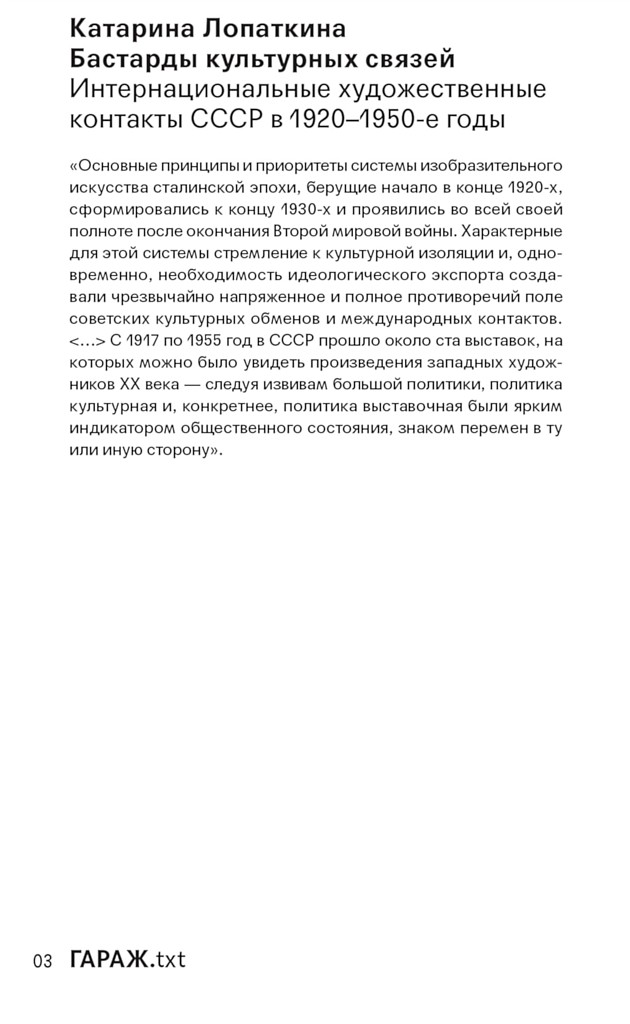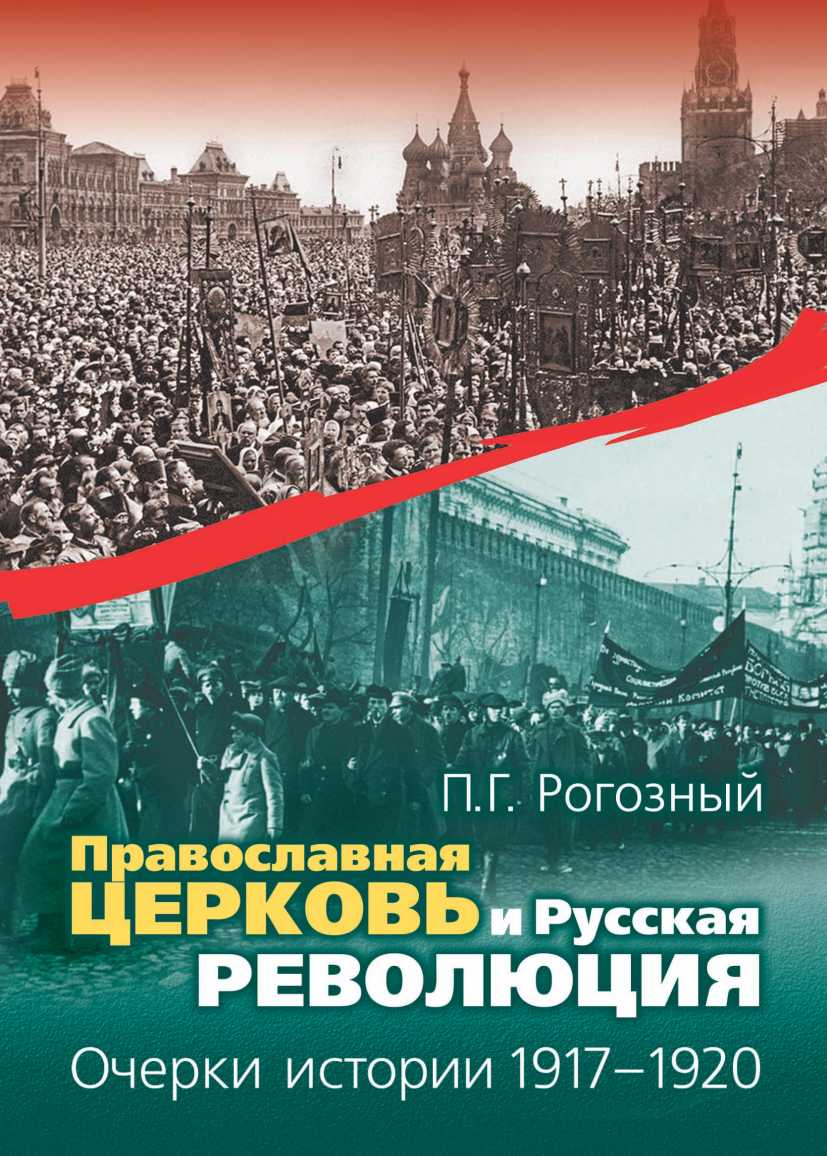Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Литература чрезвычайного положения
Шаламов предлагает новый синтез на базе модели литературы факта, в котором документальный материал не существует вне «формы его фиксации», чему служит собственная кровь автора, а также вытекающая из этой физиологии прагматика чрезвычайного положения. Как авторитетно заявляет Брик,
Можно делать с фактами только два дела: или можно их использовать в протоколе или в прокламации. Протокол не искажает факты – он их фиксирует во всей их реальности. Прокламация не фиксирует факты, а пользуется ими и искажает их в том направлении, в каком ей это нужно[1155].
После опыта распространения прокламаций в университетские годы, приведшего к первому аресту, Шаламов навсегда ограничивается жанром протокола, который, однако, у него самого никогда не сводится к фиксации фактов. Шаламов их не искажает, но, как и «документ, окрашенный кровью», подразумевает тем большую «достоверность протокола, очерка, подведенную к высшей степени художественности» («О моей прозе»). Если в литературе факта флагрантный характер материала противостоял его художественной деформации, то у Шаламова обратная пропорция заменяется прямой: чем достовернее, тем художественнее. Это не стоит путать с обратной закономерностью («чем художественнее, тем (досто)вернее») и проповедью «внутренней художественной правды», столь распространенной в самоописаниях литераторов. Шаламов продолжает мыслить в лефовско-формалистских категориях, где всегда существует пропорция материала и конструкции, фактов и монтажа (и нет ни того ни другого самого по себе и «как такового»), однако он придает этой формуле довольно неожиданный вид, при котором достоверность протокола или очерка (то есть жанров, основанных на фактах) не убывает с художественной обработкой (она же – деформация), следами «руки автора», но, наоборот, является ее условием, обещает ее «высшую степень». Платонову еще приходилось сознаваться в избыточных примесях души и одновременно доказывать цементирующую ценность желудочного сока; для Шаламова здесь уже нет противоречия: чем больше крови автора пошло на документы, тем они убедительнее. Он указывает и на другие транс– и деформации самой фактографической программы:
В «Колымских рассказах» отсутствуют описания, отсутствует цифровой материал, выводы, публицистика. В «Колымских рассказах» дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы, а не в форме интонации «информации», не в сборе фактов. Хотя, разумеется, любой факт в «Колымских рассказах» неопровержим (147, курсив наш).
Место цифр и организационных выводов, сбор фактов и интонацию «информации» заменяют страшная тема и изображение новых психологических закономерностей. Не может быть ничего более полемически заостренного против ЛФ, чем «изображение» и «психология», однако важно то, что изображаются закономерности, а тема подвергается исследованию, что уже ближе к фразеологии ЛФ, и, наконец, при всех этих сдвигах главное наследство Лефа – факты остаются неопровержимы, даже без цифр, сбора и выводов.
Все дело в том, что Шаламов берет у Лефа не столько референциальный факт, сколько факт высказывания, который был важен уже в оперативной фактографии в той же степени, что и его материал. Отсюда и это постоянное колебание: «дело не в сборе фактов», но «любой факт неопровержим», «нет надобности собирать материалы» (посещая Бутырскую тюрьму, этап, лагерь), но именно «тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни»[1156], и, наконец, «нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации», и при этом «некогда цветить узор»[1157].
Шаламов подразумевает, что референциальный мир его прозы – это мир настолько чрезвычайный, невысказываемый, что он не может, а то и не имеет права заботиться о стиле; с другой стороны, этот мир не только оказывается высказанным на наших глазах, но и снабжается добавочной чрезвычайностью, залегающей в самом факте такого высказывания. Если западноевропейский модернизм акцентирует в эти годы распадающиеся повествовательные конвенции и референциальную нестабильность, то советскому зэку Шаламову можно как бы не беспокоиться даже о минимальной формальной искушенности и риторической осведомленности, ему достаточно просто сообщить факты, составить «документ, окрашенный кровью». И все же Шаламов эту искушенность и осведомленность последовательно обнаруживает.
позавчера в пять часов пополудни я взял с книжной полки тыняновскую «Проблему стихотворного языка» и проглядел эту книжку <…> Великое достоинство тыняновских работ, а равно и всех авторов сборников ОПОЯЗа – это приближение читателя к вопросам истинной поэзии. Если хотите понять, что такое стихи, то надо читать работы ОПОЯЗа <…> это – наилучшее, чуть не единственное на русском языке описание условий, в которых возникают стихи. И, цепляясь за тыняновские фразы, за опоязовские фразы, вдруг находишь путь к настоящему[1158].
Трюизмом может прозвучать то, что Шаламов не является приверженцем формализма, орнаменталистского понимания письма. Но вот как он сам подытоживает древнюю тяжбу, связывающую техническое с тематическим: «Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств» («О моей прозе»). Этот избыток необычности и исключительности не позволяет нам определиться, в чем же здесь дело: в форме, совершающей решающую работу новизны, или в исключительном состоянии, которое будет воздействующим тем больше, чем меньшей литературной обработке оно подверглось?[1159] Очевидно, что исключительные референциальные объекты влекут за собой перераспределение выразительных средств, а новая форма по определению падка на современный материал[1160]. Но в любом случае сохраняется очевидность первичной инициативы, тогда как Шаламов последовательно избегает глаголов-связок: «форма для состояния»[1161]. Если бы форма «была нужна», значит, она следовала бы за материалом и подчинялась ему, если бы она сама «требовала», то можно было бы расценивать референциальный объект прозы Шаламова только как «явление стиля».
Если такой знаменательный объект формалистской теории, как торжественная ода, еще мог быть описан как жанр, парадоксальным образом затребованный внешними рядами (политикой и акустикой дворцовых помещений) и одновременно затребующий их сам только в качестве своей формальной мотивировки и повода для литературной эволюции[1162], то рассматривать лагерный барак в качестве сюжетной мотивировки или инструмента введения нового материала в искусство кажется запрещенным отчетливой чрезвычайностью референта и исключительностью экзистенциального опыта, как бы превышающими онтологический горизонт всякой литературы. Но Шаламов продолжает усердствовать в парадоксе фактографии: «„Колымские рассказы“ – вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно» («О моей прозе»).
В этом парадоксальном размещении и следующей из него претензии мы узнаем что-то из уже разбиравшихся выше стратегических ультиматумов. Как и полагалось с основания