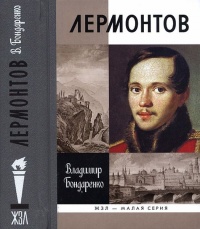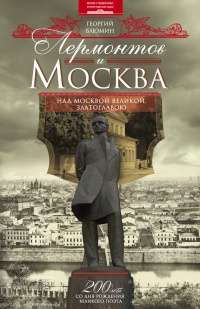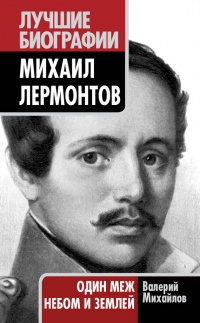Книга Лермонтов - Алла Марченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во всяком случае, ни до декабря 1835-го, ни после – ничего «грешного», такого, что могло бы «затмить младые дни» детской его «мадонны», между ними, разумеется, не было. Больше того, если предположить, что Николай Федорович Бахметев, как и князь Лиговский в пьесе, и впрямь застал жену, осмелившуюся принять незнакомого ему гусара и беседующую с ним наедине, станет понятнее и его пожизненная черная ревность[33] к Лермонтову.
Новый год Лермонтов, как и обещался, встретил не в Москве, а в Тарханах, вдвоем с милой бабушкой. В этот траурный день он никак не мог оставить ее одну. С тех пор, как себя помнил, 1 января они всегда были вместе.
Родственники и даже сестры не одобряли Арсеньеву в отношении внука: пристрастная, всепрощающая любовь не входила в столыпинский кодекс семейственности. Опомнись, мол, Лиза, он же тебя и в грош не ставит! Лиза не обижалась и не возражала. Кабы в грош не ставил, зачем спешил? Мог бы и в Москве Новый год встретить, а он сюда, к ней… Опомнившись от нечаянной радости, Елизавета Алексеевна спохватилась: не поздравила с Рождеством задушевнейшую из подруг, Прасковью Крюкову. Винясь, описала и приезд внука. Письмо это чудом сохранилось:
«Милой и любезнейший друг. Дай Боже вам всего лучшего, а я через 26 лет в первой раз встретила новый год в радости: Миша приехал ко мне накануне нового года. Что я чувствовала, увидя его, я не помню, и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать и легче стало».
И дальше, в том же письме: «В страшном страдании была, обещали мне Мишеньку осенью еще отпустить… Я все думала, что он болен и оттого не едет, и совершенно страдала. Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, но я себя извиняю: он один свет очей моих, все мое блаженство в нем, нрав его и свойства совершенно Михаила Васильевича, дай Боже, чтоб добродетель и ум его был».
В том, что через двадцать шесть лет после самоубийства Михаила Васильевича Арсеньева, преображенная любовью к внуку, помягчела к беспутному и странному мужу, ничего удивительного нет. Удивительно, что сумела угадать за безумным и безнравственным его концом «ум и добродетель». А угадав это, понять, что и Мишель – той же, чуждой столыпинскому здравочувствию, природы: «…Нрав его и свойства совершенно Михаила Васильевича». Понять это в Мишеньке значило: простить это Михаилу Васильевичу. Елизавета Алексеевна простила. «И легче стало». Но не надолго. К привычным от рождения заботам о здоровье прибавилась еще одна, потребовавшая предельного напряжения душевных сил. Отныне вся ее недюжинная энергия, вся зоркость ее пристрастия подчинены одному: сохранить, уберечь, оборонить, не дать пропасть. Между тем внук «несчастной, многострадальной» Арсеньевой вовсе не желал пропадать. Он хотел жить и действовать. Он хотел славы. Не просто известности – славы, которая поставила бы его вровень с Пушкиным. Но в двадцать два года Пушкин был знаменитым на всю Россию поэтом. А у него один «Хаджи Абрек»!
Выход? Работать. Работать, пользуясь каждой возможностью увильнуть от «службы царской». И Лермонтов работал.
Стояли морозы. «Снег в сажень глубины, лошади вязнут… и соседи оставляют друг друга в покое», – писал он из заметеленных Тархан в Петербург Раевскому. К 16 января 1836 года были готовы три акта «Двух братьев». Теперь он писал четвертый, последний, и никак не мог отдаться работе целиком. Раевский молчал, и это ничего хорошего не предвещало. Но Лермонтов все-таки заставлял себя, несмотря ни на что, в одно и то же время садиться за письменный стол. Пьеса шла и не шла… Драматургия той поры, когда дело касалось того, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга, еще не умела обходиться без грубого романтического грима. Вещь не получалась, и Лермонтов, доведя текст до формального конца, потерял к ней интерес. Отпуск, однако, еще не кончился, и он, одним махом, используя готовый онегинский размер, решил проверить, годится ли его перо, уже вроде бы навострившееся извлекать поэзию из предметов самых обыденных, на что-нибудь более дельное, нежели лейб-гвардейская бурлесковая «одиссея». Попробовал и в несколько завьюженных ночей набросал забавную провинциальную историйку. Тональность задал веселенький опереточный мотив, самостийно сложившийся при въезде в Тамбов, в котором уволенный в отпуск корнет и переночевал, дабы не заблудиться в метели, да еще и навестить старого приятеля по Университетскому пансиону, Иосифа Романовича Грузинова, того самого, кому некогда посвятил одно из дружеских посланий («К Грузинову», 1829).
Все правда! При царе Алексее Михайловиче в безвозвратные тамбовско-пензенские края ссылали бродяг и фальшивомонетчиков. А как погубернаторствовал на опальной Тамбовщине Гаврила Романович Державин, и сам в те годы полуопальный, приосанился Тамбов, на многих картах имперских кружком отметился. И даже мостовыми обзавелся. Полвека минуло, а не окривели три главные улицы, певцом Фелицы из любви к гармонии спрямленные, и будочники, как и при нем, в будках торчат – для стройности градоустройства, приличия и порядка, и трактиры с номерами для господ мимоезжих благоденствуют. Один – «Московский», а другой – «Берлин». Ничего не скажешь, славный городишко. Одна беда – скука.
Грузинов же, служивший в суде, видимо, и рассказал школьному приятелю о местных картежниках. И даже дом, где по ночам ведется большая игра, указал. Все эти подробности раскопал Борис Илешин, опубликовавший некогда в «Неделе» (1985, № 23) заметки о «Тамбовской казначейше».
Он же, сославшись на Л.Прокопенко, рассказал, что и фамилию героя «Казначейши», и даже чин его – штаб-ротмистр Гарин – Лермонтов не выдумал.