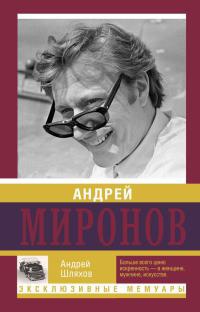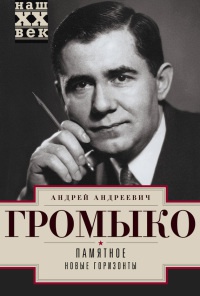Книга Андрей Белый - Валерий Демин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«РЫДАЙ, БУРЕВАЯ СТИХИЯ…»
В России повсюду бросались в глаза те же самые признаки войны, которые А. Белый уже успел повидать по всей Европе: хмурые сосредоточенные лица, продуктовый дефицит, отсутствие на улицах транспорта, мобилизованного на фронт, множество военных, особенно выделялись выписанные из госпиталей раненые и увечные. В течение месяца определилась и его собственная военная судьба – он получил отсрочку от призыва – пока что на три месяца. Можно было заняться устройством своих литературных и запущенных бытовых дел. В Царском Селе под Петроградом навестил Иванова-Разумника, в Москве дописал «Котика Летаева», три месяца чередовал жизнь в Первопрестольной и Сергиевым Посадом у Сергея Соловьева[39] и его жены Татьяны (младшей сестры Аси и Наташи Тургеневых), дождался выхода в свет собственного фундаментального труда «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Наконец активно включился в реализацию нового большого проекта (как бы сегодня сказали) – цикла литературно-философских книг (сборников эссе), названных Белым «На перевале». 1-я часть – под названием «Кризис мысли» – была уже почти готова. За ней последуют еще два «кризиса» – жизни и культуры. (Все три части будут опубликованы в 1918 году; 4-я часть, написанная несколько позже – в 1921 году, – так и не увидит свет.)
Получив еще одну – на сей раз двухмесячную – отсрочку от призыва на военную службу, Белый в конце января 1917 года вновь переместился в Петроград, где поочередно проживал то в Царском Селе у Иванова-Разумника, то в столице у Мережковских. Здесь его и застала Февральская революция. Зинаида Гиппиус оставила подробнейшие дневниковые записи о событиях тех дней. Их квартира, расположенная поблизости от Таврического дворца, где заседала Государственная дума, вновь стала центром притяжения представителей самых разнообразных общественных сил. Мережковским постоянно звонили члены будущего Временного правительства, А. Ф. Керенский забегал по-свойски и информировал о происходящем. Под окнами текли нескончаемые колонны демонстрантов, одних солдат, перешедших на сторону восставшего народа, насчитывалось до 25 тысяч. Одновременно то тут, то там завязывались перестрелки, немедленно перераставшие в кровопролитные уличные бои.
В самый разгар событий, во вторник 28 февраля, Белый вернулся из Царского Села в Петроград и тотчас же попал под обстрел. З. Н. Гиппиус отметила: «С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе». Белый в своих записях оказался еще лаконичнее: «Пять раз был под пулеметами…» На другой день он вместе с Мережковскими отправился к Таврическому дворцу. Зинаида Николаевна, воодушевленная всеобщим революционным подъемом, записала:
«Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний – и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга. С нами был и Боря Бугаев (он у нас в эти дни). В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые, – милые, радостные, верящие какие-то… Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости…»
Всеобщее ликование охватило всю страну. Царь отрекся от престола. В России провозглашена республика. Свобода и демократия, которые каждый трактовал по-своему, сделались главными социальными лозунгами – к ним апеллировали все без исключения и понимали нередко, как вседозволенность. Но революционная эйфория быстро сошла на нет, а политические и экономические проблемы (не говоря уже о положении на фронтах) остались прежними. Новая власть взяла курс на «войну до победного конца», что шло в разрез с интересами и настроением основной солдатской массы и всего народа России. Началась дезорганизация армии, доходящая до полного неподчинения командованию, и повальное дезертирство. Хозяйственная жизнь едва теплилась (ежели не считать военной промышленности). Бумажные деньги обесценивались не по дням, а по часам. Поезда, набитые до отказа, ходили с перебоями.
В Москве Белый видел то же, что и в Северной столице: административный хаос (неизвестно и непонятно, кто кому подчинялся) и огромные очереди в хлебные лавки. Куда ни глянь – повсюду солдаты в выцветших серых шинелях с котомками за плечами и с красными бантами на груди или на папахах: кто – проездом домой, кто – по выписке из госпиталя, а кто – и просто так. Наблюдательный А. М. Ремизов, вспомнив, должно быть, оперу «Хованщина», выразил свои впечатления одной точной фразой: «Что-то было от стрелецкой Москвы». Тротуары, мостовые, подворотни, дворы, подъезды и лестничные площадки засыпаны неубранной шелухой от семечек – их лузгали все поголовно, дабы заглушить постоянное чувство голода при хроническом отсутствии хлеба и постоянного урезания норм его выдачи.
В провинции – полнейшая анархия, крестьяне начали с грабежей и поджогов господских усадьб, не считаясь с их культурной значимостью и общенародной ценностью (нагляднейший пример – дача Блока в Шахматове и хранившаяся там библиотека). Первое, что услышала Маргарита Сабашникова в родном доме, когда она, как и Андрей Белый, с огромными трудностями и совершенно обессилевшая от голода добралась из Дорнаха до Москвы, где проживали ее родители: «Чем же теперь тебя кормить?!» Соседка рассказала, что ей пришлось отпустить на несколько дней в деревню няню, – та по-простецки отпросилась пограбить усадьбу тамошнего помещика («А то, – уверяла она, – опоздаю, и наши мужики все награбленное между собой поделят».).
Своими невеселыми впечатлениями и наблюдениями Белый делился с Ивановым-Разумником: « Я же Россию люблю, я же русский… Я верю в русский народ, но… когда мне рассказывают, как в лазаретах раненые занимаются тем, что угрожают выкинуть сестер милосердия из окна, когда по Москве расхаживают дворники в процессиях, вследствие чего Москва стоит 2 недели невыметенная и начинаются глазные и горловые болезни, а когда идет ливень, то вследствие засорения труб – Москва „всплывает, как тритон“ (пушкинское сравнение из „Медного всадника“. – В. Д.), и останавливаются трамваи, когда видишь толпы пьяных, видишь истерзанных дико-ожесточенных солдат, с руганью чуть ли не выпихивающих дам из трамваев, когда видишь плюющих семечки и топчущих газоны тех же солдат, когда у центральных бань видишь среди бела дня ораву проституток и солдат, начинаешь думать, что детям и дамам неприлично показываться в центре города… »