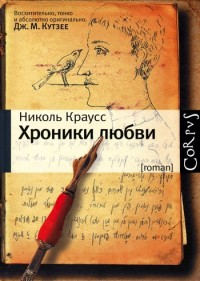Книга Однажды в Бишкеке - Аркан Карив
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Всегда интересно и поучительно посмотреть на себя глазами других, и недаром, видимо, одной из самых диссидентских книг в Советском Союзе была книга французского публициста де Кюстина «Николаевская Россия». Де Кюстин писал: «Каждый, кто познакомится с царской Россией, будет готов жить в какой угодно стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по своей природе человек не может быть счастлив без свободы», — и этот пассаж воспринимался вполне актуально, стоило только заменить «царскую» на «советскую».
Ненавистью к советской власти были серьезно контужены те, кто приехал в Израиль в 1970-х. Их можно понять: они уезжали в мрачной тени ужасного слова «навсегда», без какой бы то ни было надежды вновь увидеть оставшихся за железным занавесом друзей и близких. Они считали Россию империей зла еще долго после того, как прекратил существование Советский Союз. Они были настолько упертыми в своих сложившихся доктринах и представлениях, что с трудом соглашались изменить в них хоть запятую. Помню, как мы с Носиком безрезультатно пытались объяснить им, что слово «тусовка» в русском языке существует, и давно. Семидесятники жили в Израиле, как в инкубаторе, и натиск новой волны русской иммиграции потряс их не меньше, чем коренных израильтян. А может, и больше. Они называли новую алию «колбасной», а себя считали истинными сионистами. Миша Генделев написал статью «0:0 в нашу пользу». В этой статье он бурно дискутировал с новыми русскими израильтянами. Навсегда запомнилась фраза: «И это он говорит мне — поэту и, между прочим, солдату!»
Генделев стал первым и пока последним израильским русским поэтом, которого пригласили на престижное иерусалимское поэтическое биеннале. После такого успеха его позвали в какую-то культурную программу на ТВ для дебатов по поводу литературы. Другим гостем был старый литератор «поколения „Пальмаха“», Йорам Канюк. Поскольку за четверть века, прожитые в Израиле, включая службу военврачом, в том числе во время Ливанской кампании, Миша ни разу не заморочился изучением иврита, считая это занятие для русского поэта не полезным, у него был только один козырь в общении с израильтянами: эпатаж.
Миша явился на передачу, что называется, at his best. На нем были сиреневая рубашка, оранжевая бабочка, зеленая жилетка и красный пиджак, а на носу — пенсне, делавшее презрительный взгляд еще более презрительным. Несмотря на то что на иврите Миша говорил, как классический татарский дворник по-русски, в дискуссии с Йорамом Канюком он победил нокаутом. Для начала Миша выдвинул короткий, но хлесткий тезис о том, что никакой литературы в Израиле нет вообще. Это, как можно было догадаться, не очень понравилось Канюку, который, бедолага, на полном серьезе запилил речь в защиту родной словесности. Миша слушал его, глядя сквозь пенсне, мало что понимал, да это ему было и не нужно. Когда Канюк закончил, Генделев важно произнес на иврите: «Как говорила моя бабушка, — и продолжил по-русски: — „неглиже с отвагой“!»
Канюк еще долго брызгал слюной, пытаясь доказать, что Миша не русский еврей, а выродок, и почему-то все время приводил в пример какого-то партизана Яшку, с которым вместе воевал в 1948-м и который очень эффективно херачил арабов из пулемета «Стен». Ведущий культурной программы был откровенно счастлив.
Как-то раз мой аргентинский приятель[100], проживший много лет в Бразилии, рассказал, что бразильская сгущенка не могла заменить ему аргентинской: «Понимаешь, вкусы, усвоенные в детстве, очень сильны». Набоков назвал русский продуктовый магазин за границей «кунсткамерой отечественной гастрономии». Это верно и сегодня. Русский продмаг, будь он в Тель-Авиве, Берлине или Нью-Йорке, удивляет коллекцией ностальгических продуктов. Русский гастрономический натиск привел в Израиле к двум серьезным подвижкам: повсеместному распространению черного хлеба и победе некошерных магазинов в борьбе с религиозным лобби.
Русским в Израиле осталось недолго. Я рассказывал на страницах этого журнала, как осознал вдруг, что нет больше в Израиле польской общины. Умрет и русская. Потому что дети русских родителей в Израиле сами уже — не русские. Есть ли здесь парадокс? Думаю, что нет. Ведь бытие хоть и не полностью, но очень сильно определяет сознание. И национальный характер.
I
В августе 1988-го надо мной стебался весь Коктебель. Отгородившись зыбким экраном сосредоточенности от девушек, моря и болтовни, я учил польский язык, который сулил мне в ближайшем будущем такие приключения, что любой пляжный роман казался рядом с ними детсадовской забавой. Но я не был суперменом, только строил его из себя. Поэтому детсадовская забава меня нашла, и я оказался по уши втянут в любовный треугольник при участии будущего писателя и ресторатора Димы Липскерова. В результате польским я тоже овладел, но так себе, на троечку. В любви не следует разбрасываться.
По моим наблюдениям, к польскому языку не бывает равнодушного отношения: его либо обожают, либо терпеть не могут. Пшепрашам, не пшешкадзам?[101] Кто-то скажет, что его бесят все эти пше, да и сами пшеки, а у меня от польских шипящих весна на сердце. Другими бескорыстными составляющими любви к польскому были Эва Демарчик[102], Марыля Родович, «Червоны гитары»[103], пушкинские переводы Мицкевича и восстание в Варшавском гетто, в котором я часто воображал свое героическое участие и трагическую гибель. Польский язык, кстати, реабилитирует слово «жид». На нем запросто можно сказать «jestem żydem», и это будет означать всего лишь то, что я еврей.
Но имелся к Польше и корыстный интерес. В тогдашней политической географии она была первым пунктом на пути к свободе, то есть первой, почти полноценной заграницей. А заграница, когда в нее не пускают, становится настоящим идефиксом. Юрий Дружников написал блестящую книгу, которая называется «Узник России». Это увлекательный рассказ о том, как Пушкин с юности пытался побывать за границей, а живя в Одессе, даже планировал побег, но так до конца жизни за границей и не побывал. Трудно сказать, пошел ли отказ в выезде на пользу Пушкину и Юрию Дружникову, — это надо у них спросить, но пушкинистика, безусловно, обогатилась.
В 1988-м, после долгих лет отказа, я подал документы по новой и, в свете перестроечных событий, ожидал скорого свидания с исторической родиной. Израиль представлялся мне сказочной страной, где я буду ходить в шортах, с автоматом, мочить арабов и говорить красавицам «аѓувати́!»[104]. Дальше этого мое воображение не простиралось. На пути к ультимативной мечте находилась Польша, сказка рангом пониже, чем Израиль, но и в нее попасть тоже так хотелось, так хотелось!