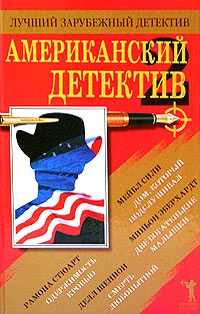Книга Тайна имения Велл - Кэтрин Чантер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Правду.
Марк и ответил мне искренне, по крайней мере, так мне показалось. В своем ответе он злоупотреблял сравнительными степенями в грамматике и теорией вероятностей в математике. Более вероятно… менее вероятно… наименее вероятно… Рут, которую он любил и с которой прожил вместе двадцать лет, очень сильно любила Люсьена. Он знает это, так как сам страдал от этой ее любви. Она любила внука больше всего на свете… почти…
– Что ты имеешь в виду, когда говоришь почти?
Теперь я превратилась в сущую инквизиторшу, которая страшна в своем желании задавать неудобные вопросы.
– Можешь ты мне честно ответить, что для тебя было важнее – Люсьен или Роза?
– Теперь я знаю, – ответила я.
– Но тогда ты была другой женщиной. Поэтому, если ты у меня спрашиваешь, могла ли Рут это сделать, я уточняю: какая из Рут?
Он придерживал мои волосы сзади, пока меня тошнило.
Он ни разу не спросил меня, считаю ли я его виновным.
Как ты похоронишь мальчика, которого, возможно, сама же убила? Что осталось от его тельца после того, как его распотрошили, словно лягушку на школьной парте? Как будто вскрытие поможет объяснить, что же на самом деле случилось! Тебе следовало бы прикатить валун на его могилу, сесть на него и рыдать. Ты могла бы подарить ему Велл, ибо Велл будет поливать его могилу и на ней вырастут лютики. Сестра Амалия думала, что службу надо проводить здесь. Каждый день она присылала мне письма, песни, молитвы, благословения, псалмы, стихи и притчи, но лишь немногие из них не попадали в руки моего цензора.
Дорогая Рут!
Мы молились о Люсьене, молили, чтобы Она указала нам свою волю, указала, как мы должны почтить его кончину. Пусть он покоится с благословением Розы, чтобы мы помнили, что Роза покоится в пустынной земле. Путникам Она кажется мертвой, комком сухих веточек на обочине пыльной дороги. Всем нам Люсьен тоже кажется мертвым, ибо его маленькое тело больше не дышит так, как дышим мы, но Люсьен жив, как жива Роза.
Я когда-то сказала тебе, что все, цветущее на земле, зарождается из крошечного бутона. Уверуй, и ты обретешь душевный мир. Мы ожидаем твоего возвращения.
Она писала мне много. Ничто из написанного не отличалось искренностью. Марк, обнаружив это письмо, сказал мне, что сестре Амалии нужен ни много ни мало, а жертвенный могильник, близ которого она сможет в полной мере торжествовать свою победу. Я не знала, что страшнее – доля вероятности того, что так оно и есть, либо состояние души Марка, не исключающее подобной возможности.
В конце концов, это не мое решение. Я вообще не была в силах принимать хоть какие-то решения. Если бы мне дали свободу действий, я, чего доброго, положила бы труп Люсьена к себе в постель, и он лежал бы там, разлагаясь до гнилых костей, которые травили бы мою живую плоть своим ядом до тех пор, пока я сама не умерла бы. Нет, я бы сожгла его тело на вершине холма на Первом поле. Пусть ветер разносит его прах над иссушенной землей этой страны, пока мы все не превратимся в ничто, в малюсенькие частички безысходности. Затем я буду кричать в зеленый колодец: «Ты предательница мужчин!» Я хочу стоять, впав в легкое безбожие, во время кремации где-то на окраине, как стояла, когда кремировали мать, а потом отца. Я хочу стоять и знать, что на свете существуют уличное движение, дезодорант, очереди скорбящих, путающих могилы своих усопших, и трава, прорастающая сквозь гравий, которым посыпаны могилы. Вот и все! Я не хотела его вообще хоронить. Я хотела вернуть его себе. Если ты разговариваешь на языке людей и ангелов, но не имеешь в своем сердце любви, ты – ничто. Можно хоронить детей с ритуалами и колокольным звоном, но без Люсьена ничего у тебя не остается.
– Я собираюсь поговорить с Энджи, – сказал Марк. – Надо договориться насчет похорон.
Марк поехал за ней на станцию. Я стояла у окна и наблюдала за ненавидимым мной дождем. Мне было дурно. Наконец они приехали. Я стояла на промозглом северном ветру и смотрела, как машина сворачивает на дорогу, теперь утопающую в грязи. То тут, то там виднелись лужи. Водитель и пассажирка. Мой муж и моя дочь. Они долго не ехали. За это время машина должна была бы давным-давно привезти Энджи ко мне по Миддлтон-Парквей. Скорее всего, они разговаривали, обсуждали меня.
Марк первым вышел из автомобиля, обошел его и открыл перед Энджи дверцу. Дочь выбралась оттуда, словно старуха, вернувшаяся домой из больницы. Старуха не знает, смогут ли немощные ноги донести ее тело до знакомой двери, не уверена, что сможет вести тот образ жизни, какой вела до случившегося.
Я упала на колени:
– Прости меня. Скажи, что прощаешь меня.
– Рут! Прошу тебя! Встань! – вмешался Марк. – Хватит с нас всех этих паданий на колени.
Даже мое коленопреклонение превратно истолковали. Я поднялась на ноги. Энджи замерла всего в нескольких сантиметрах от меня. Но нас как будто отделяло огромное пустынное пространство. Казалось, ее отчужденный взгляд воздвиг между нами стеклянную стену. Марк подошел к ограде и глянул в сторону полей с видом гостя. Вся возникшая между нами близость исчезла за время поездки. Когда-то Энджи делала свою домашнюю работу. Тогда она еще училась в младших классах. Задание касалось пословиц. Лучше одна птичка в руках, чем две в кустах. Кто над чайником стоит, у того он не кипит. Один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти. Мы тогда были для дочери истинными кладезями мудрости. Не думаю, чтобы кто-то, забывшись, мог озвучить бестактное выражение о третьем лишнем. Я вспомнила это выражение, стоя на подъездной дорожке. Я поняла, что все старые связи вновь порваны. Энджи начала бить дрожь. Марк провел ее в дом и усадил на диване. Я видела на лице дочери выражение отупения, вызванного лекарствами, с помощью которых она пыталась заглушить свое горе. А еще… Я ужаснулась при виде булавочной черноты ее зрачков, того, как Энджи бесконечно облизывала губы. Говорят, что, если достаточно хорошо знаешь наркозависимого, сразу же можешь определить, принимает он или чист. Когда я присела возле дочери, то попыталась закатать рукав ее толстого свитера из шерсти ламы. Отдернув руку, Энджи вскочила и перебежала на противоположную сторону комнаты. Кресло она толкнула так, чтобы оно оказалось между нами. Дочь, трясясь всем телом, забилась в угол и принялась орать, царапая ногтями диванную подушку:
– Какого хрена? Что мне еще делать, мама? Молиться?
И…
– Ты убила его! Что бы ни случилось дальше, я до конца жизни буду винить тебя в этом! Ты убила единственного человека, которого я когда-либо любила!
И…
– Я очень его любила! Ты понятия не имеешь, как сильно я его любила!
И…
– Это ты должна была утонуть в этом гребаном озере!
И… и… и…
Марк топтался рядом в молчании. Он поправил фотографию в рамке, на которой был запечатлен наш первый день в Велле, и воздухопровод вытяжки над плитой так, что оттуда донесся тихий гул. Марк провел пальцем по столешнице, принялся выдвигать и задвигать ящики, в которых лежали квитанции, высохшие шариковые ручки и старые номера журнала «Форель и лосось». Он провел Энджи из ее укрытия к табурету, стоящему перед плитой. Здесь она села, испепеленная собственным пламенем.