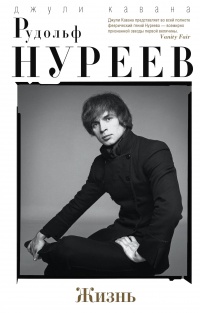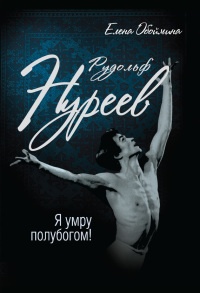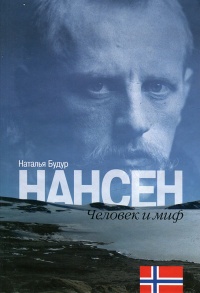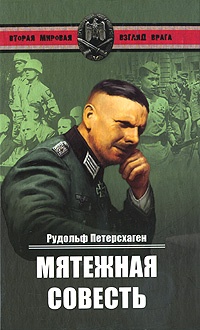Книга Рудольф Нуреев. Неистовый гений - Ариан Дольфюс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И однако же Нуреев страшился этих проявлений. Ведь он знал, что не в состоянии сдержать себя. В борьбе против других, против любых правил он был прежде всего в борьбе с самим собой. Темы физического насилия он старался избегать. Своему другу Виттории Оттоленги, спросившей его однажды об этих грубых выходках, он ответил, очевидно пытаясь защититься: «Слава богу, есть хоть немного темперамента! Хоть немного страсти! Без страсти, которую мы испытываем к разным вещам, это не жизнь, а существование…»{615}. Через некоторое время он признался той же Виттории: «Я уязвим, я очень уязвим…»
А может, вспышки гнева у Рудольфа были свидетельством его душевной болезни? Жан‑Люку Шоплену, главному администратору балетной труппы Парижской оперы, которого он сам пригласил в 1985 году и с которым был в хороших отношениях, Нуреев однажды доверительно признался: «В моей семье было много душевных болезней…» Шоплен подтверждает: «Рудольф боялся самого себя. Он знал, что его инстинкты могли завести куда угодно. И броски термоса были способом помешать себе зайти слишком далеко»{616}.
Попытка направить в нужное русло свои эмоции была бы поступком взрослого человека, но она так и не была предпринята. Марго Фонтейн, испытывавшая к Рудольфу настоящую привязанность, сама однажды резюмировала его характер следующими словами: «Артистически Рудольф очень зрелый человек, но эмоционально — совершенно незрелый»{617}, и все приведенные факты это подтверждают. Нуреев очень рано стал взрослым и очень скоро — знаменитым, его жизнь была такой и никакой другой. На самом деле у Рудольфа просто не было времени вырасти по‑настоящему.
До самых последних дней Рудольф по сути оставался маленьким Рудиком, который был бесконечно одинок. Он был способен завопить, чтобы обратить на себя внимание, или подраться с тем, кого считал своим врагом. В 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме, интервьюеру одной американской газете он говорил, что «люди привыкли драться, и это их право, это у них в крови. Люди — как животные. Молодые парни подрастают и должны, как тигры, точить свои когти. И надо, чтобы они это делали, чтобы они дрались… Именно поэтому придуманы войны…». И дальше он утверждает: «Мне вот этого не надо. Я нашел, как подавить свои инстинкты, может быть, не все, но во всяком случае, большую их часть. Я их оборачиваю во что‑то созидательное, а не разрушительное»{618}.
Несомненно. Но все же какая‑то часть его оставалась саморазрушительной. Потому что некоторые его неосознанные стремления, о которых сам Рудольф был прекрасно осведомлен, так и не удалось усмирить, и он навсегда остался этаким неуправляемым ребенком. Способным и в пятьдесят лет дать кому‑то пинок под зад, как мальчишка, швырнуть оказавшийся под рукой предмет, а потом собирать обломки или, сконфузившись, подойти к жертве и расцеловать ее. Когда ему было далеко за двадцать, он коллекционировал электрические поезда в своем огромном лондонском доме и с удовольствием играл на досуге. Как ребенок, Нуреев говорил кое‑как и писал с орфографическими ошибками (вот почему он никогда никому не писал писем!). Как ребенок, он шел к тому, кто дарил ему больше подарков, и, как ребенок, употреблял бранные слова, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Этого избалованного ребенка никогда не наказывали. Он был в почете, он был знаменит, он был всесилен. Но за это он дорого заплатил.
Репортеру «Эсквайра», спросившему его в 1968 году, что для него является наиболее трудным, Рудольф ответил с редкой откровенностью: «Жить с самим собой. Когда я работаю, я счастлив. Но между двумя ангажементами я разваливаюсь. Я совершенно разрушен. Я невыносим. Я становлюсь словно пьяным. Не знаю сам, что с собою делать…» «Часто ли вы думаете о самоубийстве?» — последовал следующий вопрос. «Каждый день», — сказал Рудольф{619}.
В своем личном зеркале Нуреев видел отражение асоциального и уязвимого человека, который так и не вырос. Он так и остался навсегда советским татарчонком, таким непослушным, но горячо любимым своей матерью. Почему он не шел на уступки? Потому что не хотел. Потому что не умел. Это порой было для него мучительно. Но таковы правила жизни. Ну и пусть его выходки кому‑то не нравились, зато он был честен перед собой.
From me to me.
Рудольф Нуреев
Родившийся бедняком, Рудольф Нуреев умер миллионером. Никогда ни один танцовщик не заработал столько же, как он. Везение? Скорее закономерность. Нуреев испытывал огромную потребность быть на сцене, и его труд высоко оплачивался. Деньги для Нуреева были инструментом жизни. И инструментом выживания.
В Ленинграде, став солистом, Нуреев получал две тысячи рублей в месяц, что соответствовало примерно тремстам долларам. Совсем немного по западным меркам, но гораздо выше средней зарплаты в Советском Союзе. Рудольф никогда не требовал прибавки к жалованью, в те годы деньги имели для него второстепенное значение. Он хотел одного — танцевать. Но, оказавшись на Западе, он мгновенно понял, что его труд может оплачиваться совсем по‑другому. Буквально через три месяца после побега он заявил с потрясающим апломбом: «Здесь я чувствую, что могу запросить столько денег, сколько хочу, потому что на Западе по сумме, которую зарабатывают, определяется ценность людей»{620}. За эти 90 дней Рудольф познал совершенно новые для него правила. Он, молодой смутьян, моментально проникся индивидуалистским духом шестидесятых. И он готов был оговаривать цену своего существования. С присущей ему провокационностью он сказал об этом четыре года спустя: «Я, Нуреев, — танцовщик, и больше ничего. Я продаюсь. Я — частное предприятие. Если нравится, можете купить. Если не нравится, идите своей дорогой»{621}. Продюсеры будут его покупать, но они предупреждены: Рудольф Хамитович Нуреев за любые деньги не продается, он знает себе цену.
На следующий день после побега Нуреев уже обсуждал свой контракт с Балетной труппой маркиза де Куэваса: восемь тысяч долларов в месяц, и это после трехсот в Кировском! В сентябре 1961 года он согласился сняться для немецкого телевидения за четыре тысячи долларов (были представлены отрывки из второго акта «Жизели» и «Видение розы»). Четыре года спустя он стал запрашивать за спектакль две тысячи восемьсот долларов. В начале семидесятых, с образованием дуэта Фонтейн — Нуреев, цена подскочила до семи тысяч за вечер (Марго получала на тысячу больше). Через десять лет, создав группу «Нуреев и Друзья», Рудольф требовал по десять тысяч долларов за выступление, а выступал он почти каждый день (двести представлений в год). В 1990 году, когда интересы Нуреева стал представлять Эндрю Ероссман, менеджер нового поколения, работавший на транснациональную американскую компанию «Columbia Artists Management», сумма гонорара удвоилась. Нуреев оплачивался так же хорошо, как тенор, — случай уникальный в мире танца, в котором гонорары были несправедливо занижены по сравнению с оперным искусством. По мнению Луиджи Пиньотти, если бы Рудольф продолжал работать в наши дни (во всем блеске своего таланта), его стоимость достигала бы миллиона долларов за спектакль.