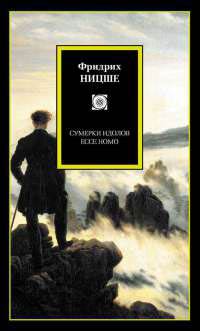Книга Северный крест - Альманах Российский колокол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для гностиковъ Люциферъ, сынъ Зари, Зареносецъ, Свѣтоносный, – не діаволъ, не зло, онъ для нихъ если и не самый Христосъ, то нѣкая благая сила, хотя имени «Люциферъ» гностики никогда не использовали; вмѣсто него – змѣй, дѣйствующій по волѣ Христа (см. «Апокрифъ Іоанна», гдѣ говорится, что Христосъ принудилъ Адама вкусить отъ древа познанія посредствомъ своего орудія – змѣя). Для гностиковъ-офитовъ либо Христосъ явилъ себя змѣемъ-искусителемъ въ раю, либо же змѣй выполнялъ волю Христа, или верховной Премудрости, или небеснаго эона Софіи, а самый рай явленъ не какъ рай, а какъ узилище, изъ коего Свѣтоносецъ вывелъ Адама. Подобно Прометею-свѣтоносцу, гностическій Христосъ есть бунтарь противу законовъ Іалдаваофа, бунтарь, принесшій съ собою высшее знаніе на землю, и въ этомъ смыслѣ онъ Свѣтоносецъ. Христосъ – Люциферъ и Люциферъ – Христосъ. Неудивительно, что и въ ортодоксальномъ христіанствѣ остались – вопреки редактированію въ угоду ортодоксальности[23] – слѣды гносиса: такъ, напримѣръ, въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ не единожды, а дважды, хотя и косвенно, именуется Утреннею Звѣздой[24], въ то время какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ послѣднее имѣетъ негативныя коннотаціи. Въ сущности, существуетъ мнѣніе, что до Мильтона «Люциферъ» не былъ именемъ діавола, либо же до средневѣковыхъ схоластовъ; но всё же вѣроятнѣе, что съ легкой руки Іеронима Люциферъ сталъ Люциферомъ: именемъ діавола.
Поверхъ двухъ разнородныхъ половинъ – іеговизма и гностицизма – историческое христіанство состоитъ изъ иныхъ двухъ половинъ: аристократизма, культуры, въ своихъ истокахъ нехристіанскихъ, спѣшно пристроенныхъ-прилаженныхъ въ первые вѣка, и собственно христіанства, вовсе неаристократическаго и далекаго отъ культуры въ своихъ истокахъ. Христіанство не андрогинъ, какъ ему бы ни хотѣлось, а гермафродитъ. Но есть и иная, третья, половинчатость христіанской ортодоксіи – гречество и еврейство; попытка соединенія этихъ полюсовъ также неудачна: «Христианству предстояло свести оба полюса к их исконному единству, скажем так: явить идейную роскошь Платона на гноящейся плоти Иова. Если христианству и удалось вообще что-либо, то никак не это: исторический христианин – это некий называющий себя христианином гермафродит, языческий персонализм которого иррационально дополняется семитской соборностью. Гётевский вопрос на засыпку: «Кто же нынче христианин, каким его хотел бы иметь Христос?», лишь подводил черту под этим всемирно-историческим срывом» (Свасьянъ К. Растождествленiя).
Десятью годами ранѣе на вопросъ «Что есть ортодоксія?» я отвѣчалъ: трусливо-аскетическое, напрочь лишенное бунта, дерзновенія и всего аристократическаго и всего героическаго ученіе, принуждающее вѣрить въ то, что никто никогда не зрѣлъ, полагающее подвѣшенные въ областяхъ, «откуда никто не возвращался», морковки и прочіе кнуты и пряники достаточнымъ основаніемъ проклясть всё здѣшнее, проклясть Я, поломать себя, кастрировавъ и бросивъ сердце на алтарь чужихъ завѣтовъ. Ортодоксія можетъ быть аристократической, мощной, земной, тогда она – лицемѣріе воплощенное (западная ортодоксія), либо она нѣчто низовое (ортодоксія восточная). Послѣдняя – какъ merde: можешь не принимать её въ сердцѣ своемъ, можешь даже и не знать её, но коли вляпаешься – вовѣкъ не отмоешься. Замаранность являетъ себя: ослабленіемъ, потерей воли, потерей – того болѣ – вѣры въ волю, силу, въ собственное Я, въ концѣ концовъ. – Ортодоксія и міровоззрѣніе ея на рѣдкость уродливы: силу подлинную (духовную) почитаетъ хвастливостью, юной наивностью, желторотостью, либо же гордостью, что должна быть – ею – низвергнута, или того хлеще – безуміемъ, которое должно быть ею вылѣчено. Бьющую черезъ край энергію, пассіонарность почитаетъ чѣмъ-то такимъ, послѣ чего стоитъ лукаво креститься. – «…освященіе рабства именемъ Божьимъ – самое древнее и гнусное изъ всѣхъ кощунствъ» (Мережковскій Д. Трагедія цѣломудрія и сладострастія); и: «И я убѣдился, что церковное ученіе, несмотря на то, что оно назвало себя христіанскимъ, есть та самая тьма, противъ которой боролся Христосъ и велѣлъ бороться своимъ ученикамъ» (Толстой Л. Въ чёмъ моря вѣра).
"Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Всё превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики" (Г.Померанцъ). – Дьяволъ, князь міра сего (вовсе не Люциферъ, а нѣчто ему противоположное), зачинается (и заканчивается) духомъ косности, подъяремности, инертности, всеобщей заданности, слѣпотою и уравниваніемъ «слезинки ребенка» и счастья будущихъ поколѣній: слезинка больше-де стоитъ; будущія поколѣнія и впрямь стоятъ больше, но еще больше – творящій (а не вторящій, какъ вялый, сѣдой авторъ цитаты). Нѣтъ роста безъ борьбы (и борьбы безъ роста): "Становление человека – carte blanche Сатаны: лицензия на зло, потому что в зле, через зло, силою зла мир не замирает в воскресности, а учится быть бодрым и будним <…> Не умей человек быть злым, у него не прорезались бы даже зубы. Грехопадение – религиозный дар, дар Я в животном, которое без этого дара оставалось бы просто райским телом: бесплотным, бесстыдным и бессмертным " (К.Свасьян «…но еще ночь»). В конце концов, кем был бы и сей борец с диаволом, не прими его предки дара Люцифера, милостью коего мы ведаем, а не сонно верим, Змеем явленнаго и даровавшаго Свободу во времена предвечные.
Снова – К.С. («Ницше, или как становятся богом. Две вариации на одну судьбу»): "…в письме, отправленном Якобу Буркхардту 6 января 1889 г. из Турина на четвёртый день после начавшейся эйфории, стало быть уже “оттуда”, ситуация получит головокружительно-“деловое” разъяснение, где “сумасшедшему” – этой последней и уже сросшейся с лицом маске Ницше – удастся огласить буквальную мотивацию случившегося: “Дорогой господин профессор, в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своём личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира” (Br.8, 577–578). Что “коллеге” Буркхардту не оставалось по прочтении этого письма ничего иного, как считать бывшего “коллегу” Ницше свихнувшимся с ума, более чем понятно. Последовавшая вскоре госпитализация “пациента” Ницше оказалась по существу лишь однозначным медицинским резонансом