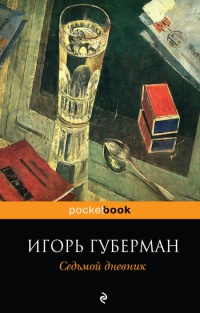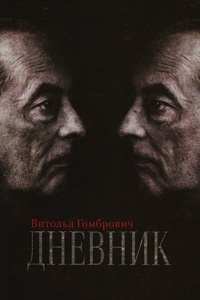Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рассказывают, что как-то у Юрия Карловича Олеши и его друга Вени Рискинда не было денег на “Националь”. И тогда они в Союзе писателей зашли в кабинет к Арию Давыдовичу Ратницкому, профессорского вида господину, который уже много лет хоронил всех писателей, начиная с Льва Толстого.
— Арий Давыдович, — спросил Олеша. — Какие у вас вообще расценки? Сколько кого стоит похоронить?
— Ну, если это писатель размера Фадеева или Федина, — невозмутимо ответил Ратницкий, — то очень дорого. А если какая-нибудь мелочь, то гораздо дешевле.
— А если меня? — с интересом спросил Олеша.
— Ну… — Ратницкий был по-прежнему невозмутим. — Вы все-таки где-то посередине; пожалуй, даже ближе к дорогим. Вполне приличные деньги.
— Арий Давыдович! — сказал Олеша, подмигнув Вене. — А нельзя ли меня похоронить в будущем как мелочь, а разницу получить прямо сейчас?
Итак, отцу достался маленький партком. Не помогло ни вступление в партию, ни обличительные письма против Пастернака и Солженицына, ни групповое содружество с “правыми”.
Были дни новогодних елок, напротив через коридор в “дубовом зале” шло представление для писательских детей и внуков. Оттуда пахло хвоей и мандаринами. Обычно в парткоме переодевались актеры. И сегодня — по ошибке — пока говорились речи над гробом — заглядывали зайцы, Снегурочка и Дед Мороз.
Народа в парткоме было немного. Мы стояли чуть в стороне от гусевской семьи во главе с вдовой. Мы — брат, я и мама. И я, глядя на ее печальное лицо, думал о том, что, если отец через столько лет пронес обиду от женской измены, он любил ее, а иначе был бы равнодушен.
Я подошел и приложил губы к его холодному лбу. Все то характерное, что было в его лице — выпяченная вперед нижняя челюсть, глаза навыкате, мясистый нос — все пропало, сгладилось, загримировалось, стерлось. И все же в этом отрешенно сосредоточенном кукольном лице с пятнами пудры, с подвернутыми ушами я видел своего отца, которого любил и который так и не понял, что я за человек. Впрочем, может быть, и по моей вине.
Как же все это смутно и несправедливо вышло…
Но, несмотря ни на что, надо было писать сказку — на раскладушке. Уже в сценарии сомнительное отчество заслуженного кота, ставшего одним из главных героев, отпало. А сам кот Матвей был смешно сыгран в фильме молодым Боярским.
В надежде на скорую работу с Авербахом я дурачился в сценарии вовсю. К сожалению, вместе с подозрительным отчеством отпало и многое из этих штук и шуток. Но всё же… Я позвал сочинять слова для песен моего приятеля поэта Володю Лугового, а он привел прекрасного композитора Геннадия Гладкова. Так и получилось то, что уже сорок с лишним лет не сходит с телеэкранов.
Договор на новый сценарий под названием “Объяснение в любви” студия со мной заключила.
Но как писать о любви? Что такое любовь?
Хоронили Нину Яковлевну. После Новодевичьего кладбища мы — все Алёшины друзья — приехали на “Аэропорт” в квартиру Габриловичей — поминать. Мы сидели за столом, а Евгений Иосифович в своем любимом большом кресле.
— Ребята, — сказал он, поднеся к очкам исписанный бумажный лист, — я хочу вам кое-что прочитать.
Начиналось это “кое-что”: “Дорогая моя, любимая и единственная”, а заканчивалось: “Целую тебя, моя ненаглядная”.
Потом это вошло в маленькую, страничек на шесть, новеллу в книге “Четыре четверти”. Но там это было уже подписано — “Твой Филиппок”.
Любовь Филиппка к Зиночке была, действительно, единственной, вечной и нерушимой. И прожили вместе они всю жизнь. Но рефреном в новелле повторялось: “Но Филиппка, хоть убей, она не любила”.
Вот именно это стало для нас с Авербахом ключом к сценарию о любви.
Может быть, именно у Габриловича я позаимствовал для этого “конспекта воспоминаний” безжалостный прием — говорить о себе, не щадя себя, а уж в самых рискованных случаях подменять себя выдуманным персонажем. И устраивать этакую путаницу, чтобы окончательно запудрить читателю мозги.
Но только не мне. Я-то был не совсем обычный читатель. Близость к семье Габриловичей была еще и частью моей жизни. И для меня в судьбе очень талантливого советского писателя Габриловича, в его отношении к любимой женщине и к тайно не любимой советской власти, которой он доказывал свою любовь, было что-то очень понятное и символическое для нашего — советского — времени.
“Габрилович Евгений Иосифович. Дата рождения:
17 (29) сентября 1899. Место рождения: Воронеж, Российская империя. Дата смерти: 5 декабря 1993 (94 года)…
Род деятельности: сценарист, прозаик, драматург. Направление: социалистический реализм…”
А я бы написал: “социалистический конформизм”.
Авербах, как настоящий режиссер, знал, где и что искать и как добиваться своего, потому и обратился ко мне, а не к какому-нибудь другому сценаристу. Но я прекрасно понимал, что не могу писать для него, как прежде, как для других. И это, конечно, давило, мучило и мешало. Легко было находить в тексте “кино”, конструировать, монтировать события и эффекты. Но, ох, когда я начал сочинять…
Розанов как-то написал о своем друге, о. Павле Флоренском: “В нем нет «воющих ветров», шакал не поет в нем «заунывную песнь»”.
Аналогии между мной и о. Флоренским, естественно, никакой, кроме имени. Но уж больно хорошо и точно сказано. Так вот, как я ни усердствовал, как ни страдал, ветры не выли и шакал не запевал свою песню. Ничего не получалось. Я не чувствовал радости. А значит, не почувствует ее и Авербах.
Я всегда говорю, что сценарий проходит две стадии. Как сказочный богатырь, разрубленный на кусочки. Сначала его поливают “мертвой” водой и все кусочки срастаются. Но он не дышит, очи его закрыты. А вот спрыснут “живой” водой — богатырь сразу вскочит на резвы ноги и пойдет рубить головы дракону.
С “мертвой” водой был порядок. А вот “живой” у меня не нашлось.
Илья монтировал тогда “Чужие письма”. Было холодно в монтажной. Он сидел на высоком круглом табурете у монтажного стола и слушал, как я читаю. Я читал, как всегда, немного — голосом — играя за персонажей. И чувствуя внутри себя ужасную пустоту и тоску провала. Дочитал. Мы посмотрели друг на друга и все поняли.
— Я знаю, что произошло, — сказал он мне на следующий день. — Тебе мешает старик. Забудь о Габриловиче.
И я забыл. И, может быть, впервые стал самим собой.
“Объяснение в любви”, конечно, было результатом совпадения наших чувств. А что еще может быть необходимее и плодотворнее для содружества режиссера и сценариста? И я до сих пор жалею, что хоть дружба была до конца, а вот содружество больше ни разу не повторилось.
Полноценное ощущение единства с режиссером было, в общем-то, только раз. С Авербахом. И дело не только в том, что мы были близкие друзья и на тот момент он, конечно, был моим вожатым и лидером, поскольку до “Объяснения” я участвовал совсем в другом кино. Главное, что нас объединяло единство чувства, единство цели. Реквием по поколению наших несчастных советских отцов-конформистов. Я работал до этого и с хорошими режиссерами, но каждый раз цель была не настолько безусловная и не настолько личная.