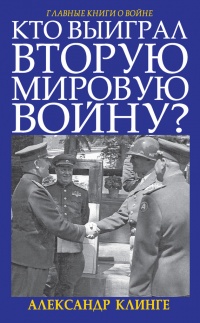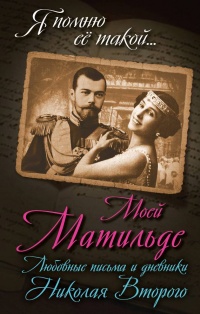Книга Тайные дневники Шарлотты Бронте - Сири Джеймс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Злонравной старой девой?
— Так вы забыли?
— Нет! Мистер Николлс, нет, не забыла. — Я была не в силах скрыть удивление. — Ваши слова отпечатались у меня в душе и, если честно, причинили немало мучительных часов, но… злонравная? Вы уверены, что назвали меня именно так? Злонравной старой девой?
— О! Пожалуйста, не повторяйте! — воскликнул он, покраснев до корней своих темных волос, и повернулся, чтобы посмотреть мне в глаза. — В тот момент ваше лицо исказилось, такого мрачного, разгневанного, униженного и страдальческого выражения я не встречал ни до, ни после. Я содрогаюсь, вспоминая его и сознавая, что послужил причиной. Ужасно, если тот промах отчасти вызвал вашу неприязнь ко мне.
Мои мысли кружились в хороводе. На мгновение мне захотелось возразить и тем самым облегчить его совесть, но ведь мы говорили начистоту, и он был абсолютно честен.
— Я убежден… теперь, — продолжил он, — что вас совершенно устраивает незамужнее положение. Возможно, тогда было иначе. В любом случае мое поведение было крайне оскорбительным, и я сожалею о нем.
Больше я не могла сдерживаться. И расхохоталась.
Мистер Николлс недоуменно на меня взглянул.
— Мое признание вас забавляет?
Я кивнула, прослезившись; довольно долго от смеха я не могла вымолвить ни слова. Мистер Николлс заразился моим весельем и в замешательстве тоже расхохотался, сам не ведая над чем.
— Прошу прощения, сэр. — Я сняла очки и вытерла глаза носовым платком, когда наконец перевела дыхание и обрела дар речи. — Я смеялась не над вами и ни в коей мере не собиралась принижать вашу откровенность. Я смеялась над собой и над собственной глупостью.
— Вашей глупостью? Что вы имеете в виду?
Стоит ли с ним поделиться? Мои щеки вспыхнули, когда я вообразила, как озвучиваю мысли, теснящиеся у меня в голове. «Меня оскорбило не то, что вы назвали меня старой девой. Все дело в предыдущем слове. Я не знала, что вы сказали „злонравной“. Мне послышалось „безобразной“. Я решила, что вы назвали меня безобразной старой девой».
— Дело в том, мистер Николлс, что я неправильно расслышала. Возможно, всему виной ваш акцент или мое предубеждение касательно себя и вас, но я была уверена, что вы сказали нечто другое, неважно что. В действительности же ваша фраза была весьма безобидной, и я рада этому. Поверьте, я полностью прощаю вас, вам больше незачем раскаиваться по этому поводу.
— Вы больше не злитесь на меня? — неуверенно спросил он. — Вас не оскорбляют те слова?
— Не злюсь. Более того, если бы я тогда расслышала вас, я не пришла бы в такую ярость. И после вы говорили многое, к чему можно придраться, но вы согласились, что вели себя бесчувственно в тот день, и мне этого достаточно. А теперь давайте оставим эту тему навсегда.
Через некоторое время, когда мы с мистером Николлсом вернулись с прогулки и прощались у дверей пастората, он с улыбкой произнес:
— Спасибо, что составили мне компанию. Мне понравилось.
— Мне тоже.
За последние два часа я узнала о мистере Николлсе больше, чем за три года нашего знакомства. Теперь между нами были не только различия, но и точки соприкосновения. К тому же он весьма достойно извинился. Расставшись с улыбкой, я поняла, что охотно повторю нашу прогулку в будущем.
Это желание, однако, погибло под лавиной ужасных событий, обрушившихся на мою семью в последующие недели и месяцы.
Состояние Бренуэлла быстро ухудшалось все лето. Его здоровье неуклонно слабело последние полтора года, но он так часто напивался или страдал от похмелья, что мы не вполне сознавали, каким опасно хрупким он стал. Обмороки и белая горячка вкупе с приступами инфлюэнцы, которой переболел весь дом, послужили сокрытию симптомов более жестокого и губительного недуга, завладевшего его истерзанным телом: чахотки.
В сентябре брат три недели был прикован к постели. Он вставал только дважды: один раз, чтобы добрести до деревни, другой — когда я принесла письмо от Фрэнсиса Гранди, его друга во время работы на железной дороге в Ладденден-Футе. Мистер Гранди неожиданно заглянул в Хауорт, заказал в «Черном быке» отдельный кабинет и пригласил Бренуэлла на ужин.
— Гранди? Не может быть! — тревожно воскликнул брат.
С огромным трудом, весь дрожа, он поднялся с кровати и натянул рубашку на исхудалую грудь. Его запавшие глаза горели сумасшедшим огнем; копна рыжих свалявшихся волос, которые он много месяцев запрещал подстригать, торчала вокруг высокого костлявого лба.
— Гранди сбросил меня со счетов. Он не приехал бы со мной повидаться. Это, верно, сам дьявол явился. Сатана пытается завладеть мной.
— Бренуэлл, успокойся, — ласково ответила я. — Это не Сатана. Это твой друг, мистер Гранди, который просто хочет поужинать с тобой, но ты плохо себя чувствуешь. Я так и передам ему и приглашу к нам в дом. Ложись в постель.
Я бережно взяла брата за руку, но тот грубо оттолкнул меня и, собираясь с последними силами, заявил:
— Прочь с дороги! Я должен встретиться с ним лицом к лицу.
Только позже выяснилось, что Бренуэлл украл с кухни нож для мяса и спрятал в рукаве, готовясь сразу заколоть «потустороннего гостя». К счастью, когда брат вошел в столовую, где ждал мистер Гранди, голос и манеры последнего привели Бренуэлла в чувство, и он в слезах рухнул на стул.
Двадцать второго сентября с братом случилась самая благоприятная перемена; я слышала, что такие перемены часто предшествуют смерти. Его поведение, речь и эмоции заметно изменились и смягчились, душа исполнилась умиротворения и радости.
Большую часть жизни он отвергал религию и отказывался каяться в бесчисленных грехах, что причиняло немалую боль папе и всей семье. К нашему облегчению, в свой самый черный час Бренуэлл наконец-то раскаялся: целых два дня он только и говорил с сожалением о своей бесцельно прожитой жизни, растраченной юности и позоре.
— За всю жизнь я не сделал ничего значительного, ничего доброго, — горько сокрушался он, когда я заняла свой пост у его кровати, — ничего, чем заслужил бы такую любовь своей драгоценной семьи. — Брат схватил меня за руку. — Шарлотта, я искупил бы вину, если б мог. Если бы любовь и благодарность можно было измерить ударами гибнущего сердца, ты бы поняла, что мое сердце бьется только для тебя, отца и сестер. Вы были моим единственным счастьем.
Когда мы собрались у одра Бренуэлла в воскресное утро двадцать четвертого сентября, я с болезненной, мрачной радостью услышала, что он тихо молится, и к последней отцовской молитве он добавил: «Аминь». Это слово странно звучало в устах Бренуэлла, но какое утешение принесло оно всем нам! Остается лишь надеяться, что оно принесло не меньшее утешение моему умирающему брату, поскольку через двадцать минут его не стало.
Пока не наступит смертный час близкого человека, никому не ведомо, сколько можно ему простить. После всего, что мы вынесли от Бренуэлла, многие сочли бы его смерть не карой, а милостью; порой мы с сестрами считали так же. Но когда раздался его последний вздох — впервые в жизни я видела смерть так близко, — когда спокойствие начало разливаться по его чертам вслед за последней ужасной судорогой, меня охватило чувство потери, которое не смыли бы и океаны слез.