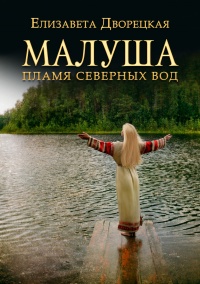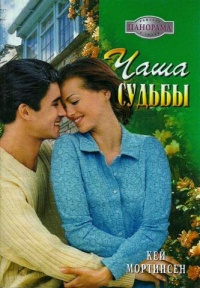Книга Княгиня Ольга. Две зари - Елизавета Дворецкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«А я бы дал полгривны кому-нибудь из бережатых и велел по дороге тайком их придушить для верности», – подумал Мистина и в досаде почти пожалел, что не сделал этого десять лет назад, после взятия Искоростеня.
Больше он такой ошибки совершать не собирался. Если он, воевода киевский, еще на что-то способен повлиять, на свет не родятся дети, что унаследуют славу Олега Вещего, отвагу и честолюбие Хельги Красного вместе с наследственными правами деревских и полянских князей.
* * *
Еще лишь раз в ближайшие дни Эльга заговорила с Малушей об этом деле.
– Я не смогу разрешить твое замужество без совета князя, – сказала она, выбрав время, когда они с Малушей были в избе одни. – Это дело слишком важное, ты ведь не простая челядинка. Святослав тоже должен дать свое согласие. А пока никому не нужно об этом знать. И… я велела Торлейву не приходить сюда. Могут пойти сплетни… Я не желаю дурной славы ни тебе, ни ему, ни дому моему. Жди. Когда князь вернется, все будет решено.
Малуша поклонилась, не поднимая глаз и радуясь полутьме, скрывавшей ее лицо. Это не был прямой отказ, но княгиня и не сказала, что сама желает этого брака. И она запретила Торлейву с нею видеться… Едва ли это добрый знак.
Теперь все зависит от воли Святослава… Малуша пыталась переставлять какие-то горшки в голбце, но не понимала, что делает своими дрожащими руками. Святослав… он приедет, и ему расскажут обо всем… На сердце было холодно от страха – как он это примет? Разгневается?
Но в душе ожил не только страх. Постепенно его вытесняло иное чувство, и уже вскоре Малуше стало жарко – первый испуг сменился возбуждением, как будто она собиралась прыгать через костер, осознавая опасность, но полная решимости не отступать. Святославу все расскажут… Он узнает, что другой потомок Олега Вещего хочет взять ее в жены. И тогда… ему уж придется задуматься о том, чего она стоит!
* * *
Неизменно верный в любви Адальберт приветствует сестру свою Бертруду
И вот, моя дорогая овечка, на плечах моих епископский паллий из шерсти двух белых ягнят в знак того, что отныне первый долг мой – отыскивать заблудших овец и нести их в стадо Господне. И уж верно рачительному хозяину не придется подгонять нерадивого раба – ведь награду свою я знаю, и нет ничего, чего я не претерпел бы ради нее, ради тебя, ради нашей новой счастливой встречи. Я уже еду к тебе, моя дорогая… Встречный ветер сдувает слезы радости с моих щек. Я направляюсь на восток – навстречу пламенной колеснице Гелиоса, коего римляне называли Сол Инвиктус. Страна ругов лежит на восток от Франконовурта, хотя обитатели ее похожи на норманнов – так мне рассказали при дворе те люди, кто видел посольство их королевы. Но большинство жителей в тех краях составляют склавы – это сказал мне сам епископ Адальдаг, вручавший мне паллий. Папской властью Адальдагу предоставлено право назначать епископов как в Данию, так и для прочих народов севера – и вот я один из них! Только подумай, моя дорогая, – я стану для ругов, то есть склавов, то есть росов, тем же, кем был Винфрид, что привел южных тевтонов, предававшихся поклонению идолам, к постижению веры христианской. Стану таким же, как Галл в Алеманнии, Эммерам в Баварии, Килиан в области франков, Виллиброрд во Фризии! Как Виллехад, что после кончины Винфрида прибыл во Фризию, чтобы разрушать идолов, и крестил многие тысячи человек. Моим попечением руги будут освобождены благодатью и милосердием Божиим, когда удостоит Он их светом истинной веры и приведет к почитанию имени Своего. Подумай, как велика эта миссия – нести туда, где еще нет высшей власти империи Римской, почитание божественной веры… Пусть я недостоин – ни добродетелью, ни ученостью своей, но я ведаю – и нам ежедневно говорится то, что Спаситель сказал апостолам: «Идите по всему миру; и се, Я с вами во все дни до скончания века».
Но я еще не раз успею с тобой побеседовать: мне ехать этой дорогой еще два месяца, если Господь сохранит от опасностей своего слугу хотя бы до тех пор, пока я и добродетельные мои спутники доберемся до места, где живут те дикие народы, – а там пусть бы я умер на краю земли, положив жизнь свою за Христа. Ибо ничего ведь не стоят временные страдания по сравнению с той славой, что откроется в нас! Прошу, не забывай поминать Адальберта, что готов пройти через самые дикие края, если это поможет мне вновь увидеть тебя…
* * *
Как осень пришла – Обещана и не заметила. Казалось, вчера была та тревожная зима, когда ее забрали сначала в Горинец, а потом увезли в Киев. Когда зацвел лен, она уже вернулась в Горинец женой молодого боярина Унерада, Вуефастова сына, здешнего посадника от киевского князя Святослава. Все в округе дивились такой ее судьбе – но больше всех она сама. Лето промчалось стрелой: Унерад с отроками разъезжал по округе, заглядывая в каждый малый городец и каждую весь, даже из двух дворов. Везде рассказывал, кто он такой, и определял, какого размера дань и каким товаром будет забирать. От товара зависел и срок: ячмень можно брать после молотьбы, а скору – весной, после зимней охоты. Воюн ездил вместе с новым зятем, подтверждая: да, все по ряду и закону.
Без сложностей, конечно, не обошлось, и особенно в Драговиже. После зимних событий, когда разгневанные русы в счет своих убитых забрали оттуда почти всю молодежь, городец захирел. Число работников и добытчиков в нем уменьшилось, а дани – по куне с дыма – никто ведь с них не снимал. Воюн созвал вече в святилище, предложил: в ближайшие лет пять, пока там не подрастут новые работники, брать с Драговижа половину, а доплачивать за него всей волостью. Плетина и его родичи, разозленные еще и этим унижением, бранили Воюна и винили в предательстве, но поделать ничего не могли. Зимой они были в Плеснеске у князя Етона, и тот подтвердил, что дань платить надо.
– Ограбили нас волки, обездолили, детей увели, в холопы продали! – возмущался Плетина на площадке Бабиной горы – укромовского святилища. – А ты, Воюнко, сам им продался – в родню пролез, теперь с ними заодно будешь кровь нашу пить!
– Ты о крови потише поминай! – сурово ответил Воюн. – А не то в Киеве проведают, кто на их посольский обоз набег делал и боярских отроков убивал. Мне сам Мистина Свенельдич, первый воевода, говорил: узнаю, дескать, кто виноват – изловлю и на первом дубу повешу!
Плетина встретил его сердитый понимающий взгляд и вздрогнул. Воюн не выдал его в Киеве, но придержал эту возможность на случай, если дома дела пойдут плохо. На прежний лад, когда они были сватами, теперь надеяться было нечего.
Обещана все лето и начало осени прохлопотала по хозяйству, основательно устраиваясь на новом месте. Летом Горинец выглядел не так, как зимой, и почти не напоминал ей тот заваленный снегом, темный чужой город, где она провела такие тревожные дни, послужившие поворотом во всей ее жизни. Перед воротами раскинулся зеленый выгон, окаймленный на дальнем краю лесом; с этой стороны был вырыт глубокий ров, а над ним поднят вал с тыном из толстых дубовых бревен и заборолом. Огибая крутой дугой широкий двор, тын заворачивал вдоль берега реки – эту часть стены достраивал за лето Унерад со своими людьми, и первые месяцы Обещана жила среди куч копаной земли, песка, щепы и стука топоров по дереву. Со стороны брода тоже были ворота – их называли речными, – широкая деревянная лестница от них вела к воде. Вдоль песчаного берега стояла на сваях длинная пристань, а в кустах лежали под навесом два десятка лодий. Сюда же, к берегу, челядь ходила за водой или стирать, тут поили лошадей. Вдоль тына с внутренней стороны стояли три вместительных дома, вроде обчин, только предназначались они не для пиров лучших мужей волости, а для постоя княжеской дружины, поэтому большую часть года пустовали. Теперь один заняли отроки, приведенные Унерадом из Киева. Нужно было привести в порядок крыши, печи, полати, оконца.