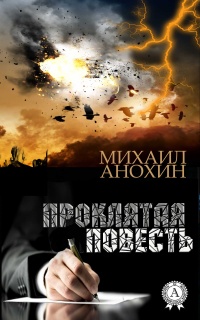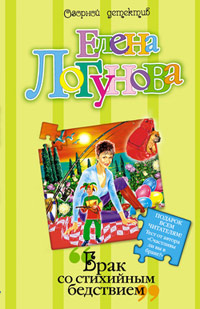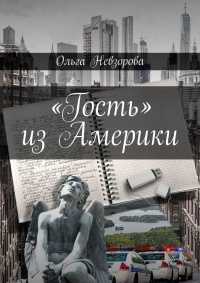Книга Сварить медведя - Микаель Ниеми
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Они бесконечно ссорятся между собой, не могут договориться, кто из них был первым там-то и там-то, кто совершил больше важнейших открытий, кто забрел дальше, кто поднялся выше. Но никогда они не спорят, кто нес тяжелее, чья ноша была самой неподъемной, – какая разница, в чем тут подвиг, если сундуки за тобой таскают местные носильщики. Малорослые молчаливые люди без имени, они безропотно сгибаются под тяжестью сундуков и ящиков с инструментами, приборами, запасами провизии, бесчисленными бутылками с пуншем. Они волокут их, эти сундуки, преодолевая боль в спине, усталость, болезни, волокут, чтобы где-нибудь на берегу Северного океана получить за свои труды ничтожное вознаграждение.
Величие и дикость севера – вот что ищут эти путешественники. Горы с полезными ископаемыми, головокружительные водопады, захватывающие дух пейзажи – все, чтобы восхитить научное окружение и получить из рук короля заветную медаль. А жизнь населяющих этот величественный и дикий север людей их не интересует. Чудовищная детская смертность, чахотка, безнадежные попытки земледелия, голод, протянутые руки нищих. И конечно, алкоголь, этот змеиный яд, сжигающий дотла семьи и оставляющий за собой пустые чумы и бесчисленное количество сирот.
А разве я сам – не один из них? Со своими коллекциями минералов и торфяников, с бесчисленными гербариями, с кропотливыми изысканиями? Что ж, надо признаться – и я одержим дьяволом честолюбия. Заметить необычное растение, а потом проверить все каталоги и описания и понять: ты открыл нечто новое, увидел и описал то, что никогда и никто из великих ботаников и натуралистов не видел и не описывал. Ты – первый. Это чувство первооткрывателя способно любого превратить в раба низменных страстей.
Но есть кое-что, что отличает меня от этих господ. Я свой. Я родился и вырос здесь, в горах на севере. Моя мать из саамов, в моих жилах бежит саамская кровь. Когда я умру, тело мое похоронят здесь же, в этой бедной земле. Это мой народ, мой край, мой последний дом.
60
Мне пятьдесят два. Осень жизни. Старость подкрадывается внезапно и незаметно. Морщины вокруг глаз. Мне всегда хватало одной сальной свечи для чтения, теперь же и двух маловато. В молодости я мог съесть столько, что живот становился похожим на парус при штормовом попутном ветре, а теперь наедаюсь мгновенно, а кишечник отпускает содержимое на волю весьма неохотно, через два дня на третий. Руки, которыми я мог изобразить с похвальной точностью каждую прожилку на листе, начинают дрожать, едва я макаю перо в чернила. Появилась сутулость – дети утверждают, что я хожу, сгорбившись, как против ветра, хотя я этого не замечаю, мне-то кажется, держусь прямо. Иногда не могу найти нужное слово, иногда останавливаюсь и лихорадочно ищу в памяти имя того или иного прихожанина; совершенно точно знаю, как его зовут, а вспомнить не могу. Работа, даже несложная, которую еще пару лет назад я мог закончить за два-три часа, теперь требует целого дня. Жизнь идет на убыль, скоро и я обращусь в прах. Но… как же все-таки она коротка! Еще недавно я чуть не бегал по болотам в Вестерботтене с ботанизиркой, битком набитой редкими видами. Передо мной была открыта вечность, гостеприимно предлагающая все новые и новые дары. Я был не женат, честолюбив, у меня еще не было детей. По вечерам приходилось загонять себя в постель, но мои ноги продолжали идти и во сне. И думал я тогда только о себе. О предстоящих победах – у меня не было никаких сомнений, что они не за горами. О сладости восхвалений, которые будут звучать со всех кафедр во всех университетах. О признании моих побед.
И да, успехов я достиг. Но успехов совсем не того свойства. Академические звания присвоили другим, более гибким претендентам. А мне досталась иная участь. Трогать души человеческие и врачевать разбитые сердца.
А потом я очутился в пустыне. Двадцати восьми лет от роду я держал на руках мертвую дочку. Эмма Мария, она не прожила и недели. Крошечное тельце было еще теплым, белки полузакрытых глаза светились, будто там, в головке, горела последняя в ее жизни свеча. Мы сидели молча, Брита Кайса и я. Душа покинула нашу девочку. О, как трудно в такие моменты сохранять веру… Наша дочь, зачатая в грехе, когда мы еще не были обвенчаны, – здоровая, крепкая девочка. А Эмма Мария, самая невинная из нас, не успевшая согрешить ни в словах, ни в поступках, ни даже в мыслях, покинула этот мир.
Да я чувствовал и сам: неумолимый молот смерти все ближе. Годом раньше умер от чахотки мой брат, Петрус. И меня тоже трепали лихорадка и такой кашель, что сомнений не оставалось: чахотка. Я был убежден: дни мои сочтены, а я прожил пустую, суетную и бесполезную жизнь. Я не воспользовался дарованными мне способностями, посвятил все отпущенное мне время служению дьяволу тщеславия, пренебрег духовным развитием. Как легко застрять в сладком болоте жизни, хлопать приятелей и соперников по фрачным спинам и ни о чем так не мечтать, ни о чем не думать, кроме как об очередном лавровом венке или очередной медали… И нет этому конца, честолюбие требует еще и еще. Как легко мне было поддаться на соблазн и стать одним из этих собирателей видов, не покидающих место у камина ботаников, чья жизнь ограничена единственной мечтой – быть упомянутым в ботанических анналах.
Не сразу, но течение моей болезни переменилось к лучшему. Через несколько месяцев силы начали понемногу восстанавливаться, я встал с постели. Окреп, но радости мне это не принесло. Мир казался серым и безнадежным, меня одолевали мрачные мысли. В руки попалась книга Карла Нордблада «Учебник разумной жизни для обычного человека». Он настоятельно предписывал ежедневные часовые прогулки, и я последовал этому рецепту. Каждый день по нескольку раз обходил вокруг церкви, круг за кругом. В конце концов образовалась тропа, которую можно было смело называть моим именем, – окружающее церковь порыжевшее кольцо. Но главное – я почувствовал: эти прогулки и в самом деле приносят пользу. Собственно, настроение лучше не стало, меня продолжали одолевать мрачные видения, однако физически я заметно окреп, больные легкие, очевидно, нуждались в проветривании. А ведь тысячи городских жителей сидят, как в клетках, в своих жилищах. Как хорошо было бы и для них ввести часовые прогулки за городом, на свежем воздухе! Хотя сельчане, очевидно, придерживались другого мнения. Служанки и работники, которые за день уставали так, что сама мысль о прогулках наверняка казалась им дикой, смотрели на меня как на сумасшедшего. За спиной они называли меня Бродячий Лассе.
Но, как я уже писал, мысли продолжали меня тревожить. Спасусь ли я? Я же верю в Бога, а предлагаю пастве искупление и прощение грехов, будто торгую колотым сахаром. Грешники спешат в церковь, чтобы их утешили и погладили по головке. А потом возвращаются домой и продолжают, называя себя христианами, пить, предаваться прелюбодеяниям и вымогать друг у друга деньги. Ничего – дернем стакан перегонного, заманим служанку на сеновал, пририсуем нолик, все равно никто не заметит. Трезвые пьянчуги, достойные развратники, честные воры. Вправе ли они называть себя христианами?
И тогда я поехал в Оселе. И Господь пробудил меня. Он говорил со мной женским голосом. Он помог мне встретиться с Миллой Клементсдоттер, этой святой богоматерью. Она приняла меня в свое чрево и вдохнула новую жизнь в иссушенную оболочку.