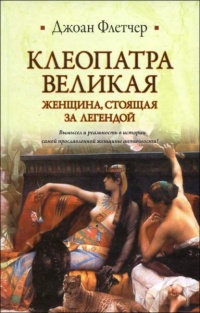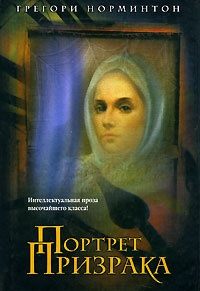Книга Клеопатра, или Неподражаемая - Ирэн Фрэн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако Цезарь считал, что его враги не решатся нарушить табу. Он продолжал заниматься своими многочисленными делами с привычными для него энергией и методичностью, ибо верил в действенность своего магического щита; но он забыл о том, что сакральную (неприкосновенную) личность отделяет от сакральной (обреченной на гибель) жертвы не такое уж большое расстояние.
И когда толпа вслед ему кричала «Rex!», он ничего не отвечал до тех пор, пока ее возбуждение не стало чрезмерным. И лишь тогда успокоил ее сухой фразой: «Я Цезарь, а не царь!»
Однако в другой раз он сказал со своей обычной высокомерной иронией: «Я скорее предпочту быть консулом и иметь на своей стороне право, нежели быть царем и нарушать его»; и все, кто при этом присутствовал, задумались: не намекает ли император на то, что хочет добиться официального присвоения ему титула rex? Сенат, фактически, им куплен; он сможет добиться всего, чего пожелает и когда пожелает.
Тогдашние мысли диктатора для нас непроницаемы. Скорее всего, он вел себя, как на войне: прежде чем переходить к наступлению, наблюдал за передвижениями противника, прощупывал почву. А может, даже еще не знал, будет ли наступать, еще ничего не решил. Но, как всегда, действовал в зависимости от обстоятельств — он был превосходным тактиком и стратегом. И в ту зиму, когда до него непрестанно доходили слухи о готовящемся заговоре, он лавировал между внешним безразличием к происходящему и двусмысленными заявлениями, причем делал это с таким блеском, что его противники уже не могли оправдать будущее покушение иначе, как заставив Цезаря открыто высказаться в пользу царской власти.
Они осуществили свое намерение в мгновение ока: однажды январским утром римляне, проснувшись, обнаружили, что все статуи императора, сколько их ни есть в городе, имеют на головах белые повязки.
Диадемы — такие же, как та, которую носит Клеопатра. На сей раз Цезарь понял, что нужно что-то предпринять, решительно пресечь кривотолки и перестать плавать в мутной воде двусмысленностей. Для этой цели он выбрал ближайший праздничный день, когда справлялся старинный ритуал очищения и плодородия (Луперкалии), все еще очень популярный: мужчины, одетые только в опоясания из козлиных шкур, обегают вокруг Палатинского холма, древней крепости Ромула, и бьют плетьми женщин, подставляющих себя под их удары, — обычно это бывают бездетные матроны, надеющиеся таким образом забеременеть.
Цезарь, сидевший в своем золотом кресле, наблюдал за этой сценой с трибуны Форума. Антоний, который уже давно принадлежал к живописному братству «дедов с розгами», совершил ритуальный бег с таким же усердием, как всегда, и с таким же скрупулезным соблюдением традиции. Если не считать одной детали: спускаясь по окончании церемонии на Форум, чтобы приветствовать диктатора, он размахивал в воздухе лавровым венком, в который была вплетена белая лента.
Еще одна диадема. Однако на этот раз она сочеталась с другим, чисто римским символом — лавровым венком воинской славы. Превосходная эмблема того политического синтеза, к которому стремился Гай Юлий Цезарь, — брачного союза между Востоком и Западом.
Толпа оцепенела. Другие бегуны воспользовались этим, чтобы пробиться к Антонию, и подняли его на свои плечи, на высоту трибуны. Антоний попытался возложить корону на голову императора. Цезарь отшатнулся. Народ зааплодировал. Антоний повторил свою попытку. Цезарь вновь уклонился.
Теперь в толпе раздались крики, люди жестикулировали и, казалось, разделились на две партии: одни роптали, другие аплодировали диктатору. Антоний вновь попробовал осуществить свое намерение, но теперь Цезарь резко его оборвал, оттолкнул корону, поднялся и приказал с посерьезневшим лицом, чтобы венок отнесли на Капитолий, в храм Юпитера, и чтобы о его, Цезаря, отказе носить корону немедленно сделали запись в фастах, официальных анналах Римской республики.
Разумеется, все это было не более чем мизансценой, подготовленной и разыгранной Антонием и Цезарем, маленьким фарсом, цель которого состояла в том, чтобы прозондировать настроения плебса и, главное, обезвредить ловушку, расставленную Кассием и его агентами. Однако этот искусный маневр не достиг своей цели: все нити заговора уже были сплетены, его участники не могли и не хотели отказаться от задуманного.
С того дня прорицателям, авгурам и ясновидцам повсюду стали мерещиться предвестия беды: огненные шары, пересекающие небо, орлы, которые средь бела дня опускаются на площадь; и с еще большим возбуждением, чем прежде, люди шептались о том, что для Рима настают проклятые дни.
* * *
Сам Цезарь ни на минуту не отказывался от позы высокомерного безразличия — вплоть до своего последнего обеда у Лепида[79], в канун ид, когда один из сотрапезников спросил его, какой род смерти он предпочитает. Цезарь сухо ответил (это была его последняя бравада): «Неожиданный!» И рано ушел из гостей. Он отправился в свое семейное гнездо, к Кальпурнии, а не на виллу в Трастевере, где все еще жила Клеопатра.
И в ту ночь, которая была такой тяжелой, — Цезарь просыпался несколько раз, у него немели мускулы, он чувствовал боль в суставах; потом, когда ему удалось заснуть, двери и ставни в его доме вдруг распахнулись и стали хлопать, словно под воздействием невидимой бури, — именно ее, молчаливую Кальпурнию, боги избрали для того, чтобы открыть императору его судьбу. Она тоже очень плохо спала. Ее преследовали кошмары, она стонала во сне: ей снилось, будто фронтон их дома обрушился на нее и на ее мужа; потом — что она обнимает обескровленный труп Цезаря.
Утром она пересказала свои кошмары мужу, а поскольку на него это, как казалось, не произвело впечатления, повторила ему последний слух, ходивший по Риму: будто накануне, в стенах самой курии (именно там, куда собирался идти Цезарь), стая птиц разорвала на куски маленькую одинокую птичку — королька.
Диктатор и бровью не повел. Тогда Кальпурния бросилась к его ногам и стала умолять не ходить на заседание сената. Цезарь заколебался. В этот момент явились его друзья, в том числе Антоний и несколько жрецов. Отчаяние Кальпурнии, ее убежденность в собственной правоте произвели на них сильное впечатление. Они попытались убедить императора послушаться жены. Цезарь все еще колебался, но вдруг почувствовал приступ головокружения и решил остаться дома.
Десять утра; заседание сената должно открыться через три часа. Кальпурния выиграла эту партию.
Но тут приходит какой-то человек[80], сенатор, он явно не в духе. Цезарь говорит ему, что не пойдет в сенат. Человек начинает кричать, что это блажь, что император постоянно унижает ассамблею.
Антоний и его друзья вмешиваются, пытаются защитить своего патрона, объясняют, что удерживает его у семейного очага. Человек разражается смехом, обвиняет императора в том, что тот верит «россказням жрецов и женщин». Задетый за живое, Цезарь все же сдерживает свои эмоции; и тогда этот человек, определенно очень хитрый, воспользовавшись моментом, убеждает диктатора, что тот должен, хотя бы из простой вежливости, пойти в сенат и сам объяснить, почему хочет отсрочить заседание.