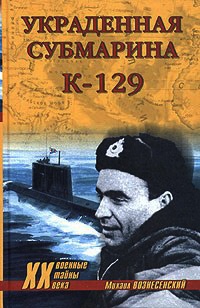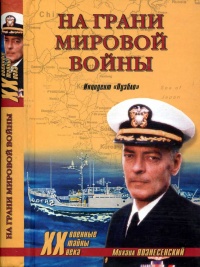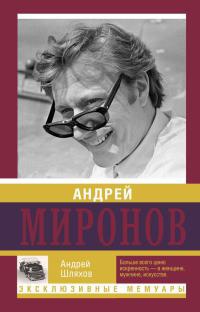Книга Андрей Вознесенский - Игорь Вирабов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Всего-то полгода пройдет, и 3 апреля 1963-го, после очередного писательского пленума, «Правда» напечатает письмо Аксенова под заголовком «Ответственность»: «На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной… Еще легкомысленней было бы думать, что сегодня можно ограничиться признанием своих ошибок. Это было бы не по-коммунистически, не по-писательски… Я считаю, эта критика была правильной». Сорок лет спустя в романе «Кесарево свечение» Аксенов вставит свои стихи — о том же: «Оттепель, март, шестьдесят третий, / Сборище гадов за стенкой Кремля, / Там где гуляли опричников плети, / Ныне хрущевские речи гремят… / Ржут прототипы подонков цековских / С партбилетами на грудях…»
Время редко сохраняет оттенки, оставляя лишь трафарет: черное — белое. А без оттенков — вряд ли что поймешь и почувствуешь. Аксенов так же размашисто проведет черту перелома «шестидесятничества» — связав это с годом шестьдесят восьмым и танками в Чехословакии. Но «переломы» у каждого были свои. И эволюция (не революция!) поэта и гражданина Вознесенского — мировоззренческая, метафизическая — началась как раз тогда, с хрущевского марта 1963-го. В каком-то смысле — спасибо товарищу Хрущеву. Вознесенский никогда не придет к черно-белому пониманию истории и мира вокруг, у него все окажется сложнее и тоньше. Тем и интереснее.
* * *
«С моей точки зрения, — поделится Богуславская в документальном фильме „Андрей и Зоя“ (2010 год), — Андрей Андреевич тогда был еще совершенно желторотый. Поэт, который взмыл в начале шестидесятых, — уже в Париже был на главной сцене, уже общался с Пикассо, Артуром Миллером и семьей Кеннеди. Уже ощутил себя избранником, поэтом мира, кумиром — и вдруг такая порка. Причем Хрущев это сделал прилюдно. Он и сам спохватился — ну, ладно, работайте, вот вам моя рука, — когда увидел этот ревущий от злобы зал и этого тоненького поэта с длинной шеей, кадыком и ребрышками напросвет. Ну и чего после этого нависшего генсека с кулаками было ждать Андрею Андреевичу?
Когда мы поженились (об этом, читатель, речь у нас еще впереди. — И. В.), он же был абсолютно инфантильным, он не только ничего не знал по дому, он жил в своем достаточно рафинированном мире, знал про „дюралевые шасси“, „синхрофазотроны“ и осень в Сигулде… „Крамолы“ никакой он не писал, крамола в его понимании вообще — это все, что против свободы. По большому счету, у него не было друзей. Ближайшего друга, в обыденном понимании, такого, кому душу излить, никогда не было. Вот у меня были друзья, а одним из свойств его как поэта было именно одиночество. Был он — и другие. Были Булат, Женя, Роберт и Белла, было единомыслие — как оселок, на котором зиждились их отношения.
После крика Хрущева ему все сочувствовали, но… он же ни с кем никогда и не делился. Может, потому и получилось так — я уже была месяцев пять возле него, как поверенная, как друг, — и вот, он как бы прислонился… Это был очень трудный период. Но нам все равно казалось, жизнь прекрасна».
Вознесенский скажет в одном из интервью уже в двухтысячные — о выдохшейся «оттепели»:
— Я думаю, ее бы никто не смог прикрыть, если бы она развивалась. Но она именно выдохлась, что понимают немногие — это было видно тогда, изнутри. Антисталинский посыл закончился довольно рано, чтобы дальше идти, нужно было опираться на что-то более серьезное, чем социализм с человеческим лицом, — или на очень сильный, совершенно бесстрашный индивидуализм, или на религию. У меня, как почти у всех, был серьезный кризис взросления, но он случился раньше «официального» конца «оттепели», задолго до таких ее громких вех, как процесс Синявского и Даниэля или танки в Праге. Думаю, это был год шестьдесят четвертый. Выход был — в религиозную традицию, в литургические интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая подсказала их. Вознесенские — священнический род… Мне кажется, я после «оттепели» писал интересней. Хотя и в «Мозаике» особенно стыдиться было нечего.
* * *
Да, весна.
Да, «графоманы Москвы» судят строго — но их «ядра пусты точно кольца от ножниц» («Графоманы Москвы…»).
Да, он посвящает другу В. Аксенову «Морозный ипподром»: «Ты думаешь, Вася, мы на них ставим? / Они, кобылы, поставили на нас».
Да, свистят и улюлюкают.
Да, «Хохочут лошади. / Их стоны жутки: „Давай, очкарик! Нажми! Бодрей!“».
Да, язык бюрократа «проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке». Языки клеветников — «как перцы, фаршированные пакостями» («Языки»).
Да, по тротуарам летят фигуры, вцепившиеся зубами в облачка пара изо рта — и «у некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы» («Языки»).
А все равно — весна. И где-то в Крыму все равно цветет миндаль. И все равно — «солнце за морскую линию / удаляется, дурачась, / своей нижней половиною / вылезая в Гондурасах» («Морская песенка»).
И «пускай судачат про твои паденья-взлеты» — от этой качки помогает «Морская песенка» поэта:
Еще одно событие начала шестидесятых, затертое потом и будто бы ушедшее в тень — но тем не менее значительное. Обсуждали его бурно, и у многих как-то засело оно в головах. Такие события поэтов часто цепляют сильно. Зацепило и Вознесенского. 2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй покончил с жизнью выстрелом в голову из инкрустированной серебром двустволки «Ричардсон» 12-го калибра.
Мир, облепленный портретами брутального бородача, вздрогнул. Как же так, кумир, Ham-and-eggs, никакая не ветчина, а натуральный Хэм с яйцами — и вдруг? Впрочем, кажется, уже назавтра Хэма стали быстро низвергать с былых высот: спецслужбы рьяно выволакивали любое дерьмо о писателе, в унисон спецслужбам тонко морщились эстеты: «фи». Почему «фи»? Ну… если вы не понимаете, почему «фи», так о чем же с вами говорить?
Юрий Трифонов тогда, наслушавшись, признался: «Я слышал много пренебрежительных и иронических замечаний о Хемингуэе у нас в стране и на Западе, видел насмешливые улыбки снобов. „Неужели вам нравится Хемингуэй?“ Я должен был конфузиться и чувствовать себя старомодным и недостаточно интеллектуальным, польстившимся на ширпотреб. Но я не конфузился».
Любопытную запись тогда же оставил в своем дневнике Жорж Сименон, уставший от «глупостей, которые пишут в газетах по поводу самоубийства Хемингуэя». Папаша комиссара Мегрэ вспомнил, что за год до Эрнеста умер Блэз Сандрар, писатель и поэт, вдохновлявший сюрреалистов. Сименона поразило вот что: оба они, Сандрар с Хемингуэем, были схожи характерами, яркими поворотами биографий, оба воспевали в своих романах «грубые радости и благородство бесстрашного мужчины». Обоих жизнь поставила перед выбором. Хемингуэй выбрал пулю. Сандрар «не только не покончил с собой — он прожил многие годы, больной, парализованный, ожесточенно борясь с болезнью, и, говорят, отказался от всех лекарств, которые могли бы утешить его страдания, с тем чтобы до конца иметь ясную голову». Сименон уверен, «никто не мог бы сказать, какое из двух решений более оправданно»… Опять придется забежать вперед — но очень скоро в горячей голове Вознесенского мелькнет вдруг мысль о «выборе Хемингуэя». А много лет спустя он разделит мучительный «выбор Сандрара». Кто это мог знать тогда? Может, только поэтам и дано — предчувствовать?