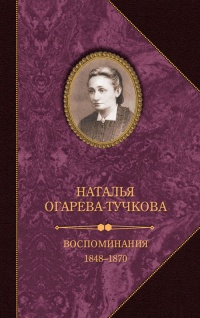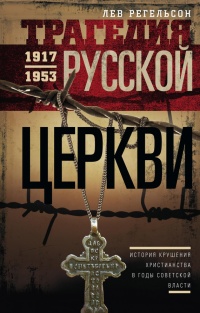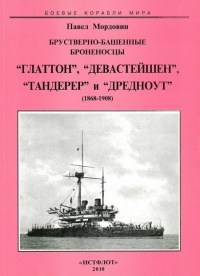Книга Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах - Лев Мечников
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
20 ноября, т. е. около девяти месяцев после новарского поражения, мир все еще не был подписан, и король нашелся вынужденным обратиться к стране с следующим заявлением:
«Распущение палаты депутатов нисколько не подвергает опасности свободных учреждений страны, которые священны для меня из уважения к памяти моего отца, Карла-Альберта. Я ручаюсь за них честью савойского дома и моей клятвой.
Перед выборами я обратился к нации вообще и к избирателям в частности с искренними словами. В своем воззвании от 3 июля я просил их действовать так, чтобы статут не стал невозможностью… Я исполнил свой долг; почему же они не исполняют своего? В своей тронной речи я изъяснил печальное, почти безвыходное положение страны, я указал на необходимость покончить все внутренние раздоры и устремить все силы на излечение общественных язв, задерживающих всякое дальнейшее развитие нашей родины. Но мои слова, проникнутые искренностью и любовью к отечеству, не принесли никакого плода. С первых же шагов своих палата депутатов стала во враждебные отношения к правительству. Конечно, это было ее право. Но если я сумел забыть многое, почему же они не хотят забыть… Я тоже имею право потребовать от палаты отчета в ее последних действиях…
Я поклялся обеспечить каждому его свободу и его права; я обещал освободить нации из-под гнета партий… Для исполнения этих клятв и этих обещаний я решился распустить эту невозможную палату, но я тотчас же созываю новую палату взамен ее. Если страна, если избиратели откажут мне в своем содействии, то ответственность за дальнейшее падет уже не на меня, а на них…»
Не следует забывать, что это говорит король, по одному знаку которого победоносная австрийская армия готова была наводнить Пьемонт и не только разогнать все существовавшие там палаты и собрания, но даже сделать созвание их невозможным на долгое время впредь. Даже не прибегая к иноземному вмешательству, Виктор-Эммануил мог легко отменить статут 1848 г., опираясь на одну только сардинскую военную и реакционную партию, которая в числе своих приверженцев считала даже несколько почтенных имен. Казалось, именно на эти крайние меры наталкивали его не только враги, но и друзья Италии; последние, быть может, не доверяя искренности его либеральных стремлений и желая раз навсегда закрыть наследнику злополучного Карла-Альберта тот путь, на котором отец его успел сделать много зла национальному делу.
Только после вторичных выборов палата депутатов решила, наконец, узаконить миланский мир, уже в начале 1850 г., т. е. когда Австрия начинала каяться в своем благодушии по отношению к побежденному врагу. Во Франции тоже начинали относиться уже крайне неблагоприятно к тому, что там считали за несвоевременное и неуместное популярничание молодого короля, упорствовавшего в своей верности принципам и учреждениям, сильно скомпрометированным тогда во всей Европе. Несколько позже, замышляя свой государственный переворот 2 декабря, Людовик-Наполеон[305] стал относиться к Пьемонту несколько благосклоннее: опасаясь непризнания со стороны Австрии своих деспотических стремлений, он замышлял против нее союз с Италией и Пруссией и посылал даже своего ближайшего поверенного Персиньи[306] с тайным посольством в Берлин. Но в это первое время после новарского поражения Пьемонт представлялся до того жалким, самое его существование, как независимого королевства, было до того нерешенным, что о союзе с ним не думал никто. Повсюду он встречал только врагов, которых истинно-либеральные склонности нового короля могли только раздражать или тревожить. Сильная французская армия собиралась на савойской границе, в предвидении, вероятно, того, что французское вмешательство в римские дела может вызвать в Италии какую-нибудь отчаянную попытку, на которую сардинский король мог бы опереться для поддержания своей популярности. Россия прерывала с Сардинией всякие дипломатические сношения, одна только Англия относилась поощрительно, но совершенно платонически, к либеральным начинаниям Виктора-Эммануила.
Мы вообще склонны преувеличивать значение силы, нравственной или физической, когда она непреклонно ломит все вокруг себя, назойливо навязывая себя всем и каждому. Но когда сила эта направляется на потаенную внутреннюю работу, мы вовсе не замечаем ее, охотно смешиваем ее с ничтожеством. Для того, чтобы в эту критическую годину воздержаться от традиционных буйных, насильственных приемов, Виктору-Эммануилу нужно было обладать непреклонной волей, твердым сознанием своего долга и многими другими, весьма уважительными и положительными достоинствами. Не надо забывать, что в это время около него нет ни одного заметного руководителя. Ближайшими его друзьями и советниками остаются в первые годы его царствования д’Азелио и граф Сиккарди[307], оба обладавшие несомненными достоинствами, но нисколько не выдававшиеся из среды довольно заурядных политических деятелей. Не они могли импонировать королю, как впоследствии будет ему импонировать Кавур, а король должен был искать их, как единственных возможных союзников на избранной им дороге.
Отстоять конституцию марта 1848 г. против реакционных стремлений старопьемонтской партии и против внушений извне, было не важным делом. Он видел только, так сказать, дипломатическое ее значение. С точки зрения внутреннего устройства, конституция эта оставалась решительно недоделанной. Рядом с клочками либеральных учреждений, выхваченных наудачу из французской буржуазной хартии, в Пьемонте существовали еще самые разнообразные и чудовищные феодальные учреждения: барщины, майораты, кастовые привилегии и, наконец, так называемый foro ecclesiastico[308], т. е. изъятие духовенства из государственного законодательства, установленное конкордатом с папою Григорием XVI. Сиккарди, как опытный юрисконсульт, был особенно необходим и полезен в борьбе с этими реакционными остатками старых порядков. Едва ли можно приписать самому Виктору-Эммануилу инициативу той борьбы, которую министерство д’Азелио и Сиккарди начинает тотчас после заключения мира в новом парламенте; но, во всяком случае, характерно уже и то, что единственными друзьями короля были люди, способные в подобные минуты поднимать столь скабрезные вопросы.
Прения об отмене foro ecclesiastico приняли с самого своего начала крайне воинственный характер. Консервативная партия в парламенте, имея во главе знаменитого Чезаре Бальбо[309], графа Ревеля[310] и большую часть савойских депутатов, решительно отвергала этот закон. Полковник Менабреа[311], бывший секретарем при министре иностранных дел, подал в отставку, спеша разорвать всякую солидарность с кабинетом. Даже те из более умеренных консерваторов, которые понимали несовместимость этих средневековых учреждений с новыми порядками, хотели, чтобы они были уничтожены не правильным законодательным путем, а новыми соглашениями с папой. Когда министр Санта-Роза[312] умер во время этих прений, туринские священники отказались хоронить его, как одного из участников противоклерикального кабинета. Несмотря на эту оппозицию, либеральный закон против эклезиастических привилегий прошел благополучно в парламенте и в сенате. Важный сам по себе, он приобрел для Италии и для Пьемонта еще тем более серьезное временное значение, что, по поводу этих прений, Кавур, депутат города Турина, выделился ярко из рядов консервативной партии и пристал к министерскому большинству. Портфель покойного Санта-Розы был ему наградой за этот полуоборот налево. Когда, по окончании прений, Массимо д’Азелио просил короля назначить Кавура министром торговли, Виктор-Эммануил отвечал: «Что же, я очень рад, только берегите ваши портфели: этот господин отберет их у вас один за другим».