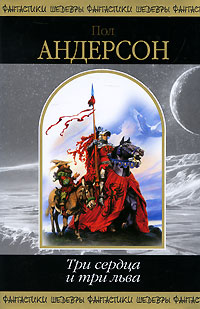Книга Абсолютная реальность - Алла Дымовская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нет нужды, – Филон ответил с некоторым раздражением, отчего-то показавшимся Леонтию, странно признать, неловким? Или смущенным? Но Филон вроде бы был еще тот фрукт, наверное. – Мы делаем все возможное, то же самое – от нас зависящее. Так. Скоро вы будете ощущать себя вполне хорошо.
– Опять голова? – вдруг припомнил нечто Леонтий. Припомнил смутно, но в верном направлении. Так он чувствовал. Нет. Так он знал.
– Опять голова. Вас контузило. Потерпите, голубчик, – сочувственные последние слова невидимой ему Пальмиры едва не заставили разрыдаться, но он не стал, потому что, ему было нечем. Его тело еще не вернулось к нему, хотя и появилась явная жалость к себе.
Что ж такое? Хоть бы какая другая часть – рука-нога-грудь-живот, так нет же! Опять голова. Прямо– таки, заколдованное место его организма. И самое, выходит, слабое. Но видит, слышит, только не чувствует запахов, не осязает и неподвижен. Однако, это временное явление. Так говорит Филон. А он знает, что говорит. Вредный «чухонец». Чухонец. Заносчивый. Пренебрежительный. Слова сквозь зубы. Цедит. Теперь вроде бы нет. Заботливый друг. Товарищ. Немного брюзга. Он был к Филону несправедлив. Глубоко раскаивается… провал…
Он очнулся. Когда? Где? Все в той же комнате, было темно. Значит, вечер или ночь. О боже! О господи! Ураураура! Трижды ура! Он шевелится! Он двигается! Правда, тело еще не до конца… будто бы он внутри автомата, которым можно управлять. Но ведь можно! Голова влево, вправо, ничуточки не кружится, шея не хрустит и не болит, удивительная контузия! Удивительные пришельцы. Это все их заслуга, что, если… Леонтий попробовал сесть в кровати. Получилось! Чудный, чудный Филон! Нет, не соврал. Все прошло. Не все. Положим. Кое-чего не хватает. Вкуса-запаха. Полного ощущения себя. Но это неважно. Это тоже пройдет. Он огляделся вокруг. Вот они оба. Сидят – в дряхлом облезлом кресле Пальмира, и рядом на обыкновенном стуле за обыкновенным столом, Филон. На столе – собственный Леонтия раскрытый ноутбук, у ноутбука – присосавшаяся намертво к портам жаба, хорошо, что он пока не чувствует запахов.
– Я не чувствую запахов, – не то победно, не то жалуясь, неопределенно сказал им Леонтий. – Это временно.
– Возможно, нет, – по-прежнему смущенно-неуверенно произнес Филон, клюнул воздух носом, – возможно, контузия не до конца… не все в нашей власти. Возможно, некоторые чувства не вернуть…
– Пустяки. Пустяки, – успокоительно повторил Леонтий. В самом деле, после того что он пережил! В смысле, испугался. Полного паралича и вообще. Утеря обонять ароматы компьютерной жабы показалась ему смешной утратой, из наименьших. – Зато голова. На месте. И соображает. Где это мы?
– В загородной гостинице. Тульская область. Тут рядом Ясная поляна. Ваш памятник культуры. Пока это безопасное место.
– Когда? – упавшим голосом и как-то просительно вышло у него. Нет, не все вернулось. По крайней мере, с определением времени у него проблема.
– Сегодня, – Пальмира печально и синхронно-просительно улыбнулась ему. Будто бы уговаривала довериться ей без дальнейших расспросов.
– Как это – сегодня? – Леонтий не то, чтобы не захотел поверить, скорее не мог. – Сегодня, в смысле… вы имеете в виду… день после травмы, то есть, контузии? Да знаете ли вы, что я провалялся на этой самой кровати черт его разберет сколько дней! Или даже месяцев! Лет! Сегодня! Что вы мне лапшу…, – он хлопнул в сердцах раскрытой, полной ладонью-пятерней по одеялу рядом с собой, но никакого удара не воспринял. Это обескуражило его. Немного.
– Сегодня, – упрямо повторил за Пальмирой, с постоянством педанта, механически, Филон.
– Как же так? Может ли быть? Не морочьте. – Леонтий переводил взгляд с помрачневшей феи на опасливо вдруг отвернувшего взгляд «чухонца». – Я был без памяти. Но мне показалось…
– Да, показалось. Сегодня – сегодня. Уже вечер. Вчера мы перевезли вас сюда. Более-менее подходящее убежище, хотя выбрано наугад. Нужно было южное направление. И вот – частное гостиничное подворье «Мормышка». Мы зарегистрировались сами, минуя вас, не беспокойтесь, расспросов не было. Потом вы приходили в себя. Недолго, – Пальмира будто и желала подбодрить его. – Время очень относительная величина. Ваши провалы длились секунды, но показались вечностью. Ваши впечатления обман. Фантом. Сродни наркотическому отключению.
Значит, сегодня. Стали бы они оба врать. Значит, все тот же день, когда он очнулся в первый раз. Тот же день, после того, как он… А что он? Леонтия пронзило воспоминание.
Он увидел, словно бы сознание его включило кинопроекцию на голую белую стену, где-то во внутреннем пространстве «Я», отчетливо потекло изображение, возник даже звук. Смазанный фон и яркий проблеск – брателло, что с тобой? Тарталетки по полу, он, Леонтий, делает первый шаг. И знает – еще можно отвернуть, а через мгновение будет нельзя. Он делает второй. Костя Собакин в своей охотничьей стойке, замечает его, выступает навстречу из темного проема. Взгляд его страшен. Не потому, что угрюмо-грозен, карательно-обличителен, истребительно-ненавидящ, презрительно-окончателен. Хуже. Это ощущение Леонтий, пожалуй, сохранит навсегда. Таким взглядом, наверное, ставил к стенке родного брата правоверный пламенно-пылкий первый чекист, году примерно в восемнадцатом – втором от революции октябрьской. Ставил и не дрожал. И рядом десяток таких же несчастных, уже не братьев, простых обывателей, но не делая различий, даже толком не глядя – и зачем бы ему было глядеть? На брата и на обывателя? Он видел уже вдали светлое будущее, он жил в нем и ради него, не существующего «несегодня», все прочее не имело важности, не несло в себе вины, любое событие, которое не служило этому выдуманному прекрасному завтра. Цель не то, чтобы оправдывала средства – вопрос таково вообще не стоял, цель и была средством, рычагом, кастетом, свинцом, а все прочее – его просто не существовало, так какая разница? Друг, отец или брат? Реже – сын или мать? Иногда так случается – цель и высшее, «бесчеловеческое» правосудие совпадают, как будто бы: если сможешь переступить через невозможное, твой рай на земле все равно, что наступил, сотворился из ничего в единую секунду, остальное-прочее дело времени и опять же переступания через невозможное. Своего рода гарантия того, что будущее сбудется, сбывается уже, пока ты совершаешь страшное – страшными же средствами, словно в опору закладывается очередной труп-щепка от бесконечного людского древа, лишь бы здание стояло, великолепный пустынный мираж, которого нет. В реальности нет.
Он ничего нового не открыл для себя в Косте, ни в то мгновение, ни ранее, словно бы давно уже все знал об этом человеке. Он и раньше, бывало, смущался Собакина. Его частой бескорыстности, неизменной правильности выбора, иногда Собакин казался и непреклонным судьей его, Леонтия, поступков, второй, истинной совестью. Тогда все это было одним чувством и выражалось одним словом – надежность. Костя был надежен, хотя от него Леонтий порой утаивал мысли и поступки, казавшиеся ему нравственно-сомнительными. Как же выпало изначально не сообразить? Что у всякой вещи есть своя тень, каждый ян не отделим от инь, каждый день от ночи, каждое добро от своего зла. Что мнимые или действительные похвальные качества лучшего друга – настанет такой момент или нет, – но могут, могут! Однажды повернуться изнаночной, оборотной своей сутью. Огонь греет и огонь жжет – как же мог он позабыть! Хоть бы присутствовало в Косте нечто «коземасловское», хоть чуть-чуть, кривое, животное, спасательно подгнившее, серенькое людское, лучше продажный Тальен, чем неподкупный Робеспьер, потому что при первом еще можно выжить и как-то сносно прожить, а при втором – в стерильном обесцвеченном аду не живут, как не живут в вакууме и пустоте, в нем даже мухи дохнут. А что, если – крамольная мелькнула и канула, испуганная, прочь его мысль, – что если, в несовершенстве и есть мир, покой и благоденствие рода людского? Что если, напористый себялюбец Коземаслов, подозрительный стукач Васятников, завиральный хвастун Дарвалдаев – они и есть та опора, на которой этот мир стоит, как на трех китах, а те в свою очередь, на черепахе, животном опасливом, ленивом и вполне себе на уме. Он понял в тот миг, в миг своего второго шага, что хуже безликой, правильной прямоты ничего нет. Ничего нет ужаснее ходячего идеала, этой человеческой крайности, которая осмысленно расставляет уже не себе строгие волчьи флажки, нет – она давно вне всяких флажков, но ставит их для других, только для других, без разбора и без пощады. У крайности есть лишь незримая граница, тот самый край – до него с тобой обращаются как с равным, как с другом, после – переступил, не обессудь. Это и было страшное. Но Леонтий разве что поразился своему открытию, но не испугался. Он сам не понимал, почему.