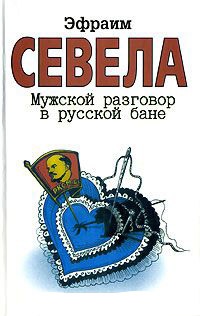Книга "Тойота-Королла" - Эфраим Севела
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Моя мать, всегда командовавшая в доме, нашла мудрый выход из положения. Алдона ляжет с ней в спальне, а мы уж с отцом, она надеется, не подеремся вдвоем на диване. Алдона насмешливо переглянулась со мной, и наш заговорщический обмен взглядами не остался незамеченным, но это никак не повлияло на мамино решение разъединить нас на ночь.
— А знаешь, сынок, — сказал мне отец, когда мы улеглись, — кого мне напоминает Алдона?
— Знаю.
— Что с ней, с Верой? Никаких сведений?
— Никаких.
— Прекрасная была девушка. У тебя не осталось чувства вины перед ней?
— А у тебя?
Он не ответил, глубоко затянулся папиросой, последней на ночь, и, без видимой, казалось бы, связи, спросил:
— У этой… все чисто?
— Имеешь в виду анкету?
— Хотя бы… В Литве, я слышал, шумно? Не очень нас там привечают?
Я поднялся на локте и заглянул ему в глаза. Мой мозг был возбужден алкоголем, и меня так и подмывало надерзить.
— А за что нас любить?
— Ну-ну-у, — протянул он задумчиво, не отводя взгляда, — мы их освободили от фашистов и заплатили за это дорогой ценой… своей кровью.
Тут уж я сорвался с тормозов.
— Освободили без приглашения с их стороны. Насколько я понял, находясь там, они предпочли бы скорее немецкую оккупацию, нежели нашу. А лучше всего никакой. Нас там считают оккупантами. С заборов не успевают стирать надписи: «Долой русских оккупантов!»
— Хулиганские выходки.
— Тогда считай, что вся Литва — сплошные хулиганы. Отец, ты себе не представляешь, как они нас ненавидят.
— Ничего, и не с такими справлялись. Врагами нас судьба никогда не обделяла.
— Но ведь они правы.
Отец застыл с окурком папиросы на губе. Лишь глаза его тревожно метнулись с моего лица к двери в спальне, и я не сдержался и съязвил:
— Что, и в своем доме разговаривать боишься?
— Нет, не боюсь. Я всегда отдаю себе отчет в том, что говорю. А вот твои речи мне не нравятся. Если правда, что стены имеют уши, то тебе лучше прикусить язык даже в нашем доме. Я уж не говорю о других местах. Ты не маленький. За такие речи по головке не погладят. И даже я, при всех своих связях, не смогу тебя защитить. Если ты дорожишь моим здоровьем, то дашь мне слово, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах подобное не сорвется с твоих уст.
Но меня уже нельзя было остановить. Горячим, свистящим шепотом я бросал ему в лицо:
— Там идет война. Самая настоящая. Через столько лет после конца мировой войны. Маленький народ не хочет нам покориться. Дерется до последней капли крови. Ты себе не представляешь, отец, сколько там сейчас, в мирное время, проливается крови. Мы там ходим по колено в крови! От этого можно сойти с ума! А сколько народу угнали в Сибирь? Целыми деревнями. Да куда там деревни! Есть уезды, где все дома стоят пустыми. Как после чумы. Ты это себе можешь представить?
— Нет. Не могу. И не желаю. Я тебе не верю. Ты преувеличиваешь. Ты всегда был слишком нервным и впечатлительным. Поверь мне, я бы знал, если б это было правдой.
— Как бы ты узнал? Разве я, журналист, об этом пишу в газете? Я на все лады расписываю, как славно и счастливо живется литовскому народу под солнцем сталинской конституции. В моей газете даже намека нет, что в Литве хлещет кровь, что мы огнем и мечом уже какой год никак не можем поставить на колени этот упрямый народ. Ни намека, ни звука. Тишь да благодать. И счастливые улыбки с портретов, которые умудряется выжать мой фоторепортер Коля Глушенков.
Зато про Алжир целые страницы. Какие, мол, ужасные изверги французские колонизаторы! Убили несчастного араба. Там убьют одного, и по нашей команде весь мир начинает содрогаться от негодования и протеста. Бедные французы не знают, куда глаза девать от стыда и позора.
И никто в мире звука не издает в защиту тысяч и тысяч истязаемых и убиваемых нами литовцев, которых мы оккупировали по сговору с Гитлером, и забыли уйти, когда Гитлера не стало. Мир молчит. Потому что мир ничего не знает. Так ловко мы обделываем свои делишки. Так наглухо забили кляпами все рты.
— И тебе забьют. Допрыгаешься, — перебил меня побледневший отец. — Дать тебе валериановых капель?
— Да поди ты… знаешь куда… со своими каплями! — не сдержался я. — Я же с тобой, как с отцом… Хоть со мной наедине не криви душой!
У него задрожала нижняя губа вместе с приклеившимся окурком. Он сорвал окурок и, перегнувшись через меня, раздавил его в пепельнице и заодно выключил свет. Укладываясь в темноте на свое место, он скользнул ладонью по моему лицу, обнял меня за шею и припал головой ко мне. Это было примирение. Мы горячо дышали друг другу в лицо и молчали. Да и о чем было говорить? Нам обоим все было понятно без слов.
Подождав, пока я совсем успокоился, отец поцеловал меня в щеку, заботливо подоткнул под мой бок простыню и, поворачиваясь ко мне спиной, заключил:
— А девицу ты привез… первый сорт. Одобряю.
Три дня в Москве пролетели в беспаузном пьяном тумане, из одних гостей в другие. Школьные друзья, университетские приятели, семейные знакомые, родственники. И наш газетный аппарат. Редактор устроил по случаю праздника нечто вроде приема в своей просторной, не чета нашей, квартире, и я, махнув рукой на предосторожность, прихватил с собой Алдону. Ее появление среди наших чопорных казенных дам и с трудом сдерживающих жеребячьи инстинкты мужчин-газетчиков произвело форменный фурор. Она выделялась в серой и безвкусно одетой толпе, теснившейся в редакторской квартире, как представитель совсем иного вида, иной породы млекопитающих. Спортивная стройность ее фигуры, отличный рост, гордая посадка головы. Покрой платья. И, конечно, улыбка, постоянная и неподдельная улыбка на пухлых губах, доброжелательно устремленная к каждому и мгновенно стиравшая печать скуки и желчной замкнутости с окружающих ее лиц.
Все мужчины, побросав своих дам, протанцевали хоть по одному разу с Алдоной. Она кружилась, легкая и неутомимая, юбка колоколом взлетала, обнажая длинные стройные ноги. Партнеры, вспотев и задохнувшись, сменялись один за другим. Ее голос, ее литовский акцент, ее смех были слышны повсюду. Каждый лез с ней чокнуться и выпить, а мужчины постарше, сдерживая одышку, норовили потрепать ее по щечке. Женщины чуть не шипели от ревности, но и они не могли скрыть восхищения, когда разглядывали ее.
Сам хозяин, редактор нашей газеты, сухой и недалекий человек, остановился перед Алдоной в изумлении и, нервно поправив на переносице очки, произнес, как цитату из приветственной речи:
— Так вот она какая, Литва! Добро пожаловать, наша младшая сестра в дружную семью советских народов.
Назвав Литву младшей сестрой, мой редактор пользовался официальной фразеологией, согласно которой СССР состоял из шестнадцати республик-сестер, а русский народ, с непременным добавлением эпитета «великий», почитался старшим братом.