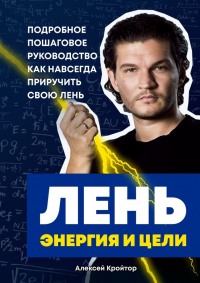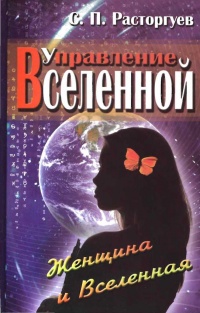Книга Бросок на Прагу - Валерий Поволяев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Посмотрел сквозь цветы на мужчину — тот не обращал на неожиданного соседа никакого внимания, словно Борисова не было вообще, подумал, что сам он обязательно застеснялся бы, если б кто-то начал любопытно коситься на него, но у отечного мужчины свет в глазах словно бы померк, кроме цветов, он ничего не видел, зацепил ртом несколько полураскрытых мелких бутончиков и медленно разжевал их.
Борисов последовал его примеру. Вкус у цветков был сладковатым, нежным, травянистым.
Цветы акации Борисову понравились, он наелся сам, нарвал Светлане — набил карманы пиджака, брюк, сунул несколько горстей за рубашку, поежился от колюче-острекающих холодных прикосновений; перед тем как уйти, поглядел на опухшего голодного мужчину. Тот тоже наелся и сидел, опустив бескостные слабые руки, улыбался чему-то отрешенно и пусто, помыкивал про себя странную бессловесную песенку. Никаких попыток подняться он не делал. Борисову стало не по себе — худо, когда человек теряет способность сопротивляться, с этой способностью уходит и всякое желание жить, остается только одно… Борисов почувствовал, как у него задергался правый глаз — сейчас он боялся даже в мыслях обозначить это «одно» конкретным словом.
— Может, вам подсобить? — проговорил он, глядя на отекшего мужчину.
Тот никак не отреагировал на предложение Борисова, даже не шевельнулся, лишь частое дыхание с хрипом выбивалось из его открытого рта.
— Не надо вам помочь? — наклонившись над мужчиной, в полный голос прокричал Борисов.
В зрачках у него зажглась далекая, едва видимая коптюшечка, мужчина попытался закрыть рот, но все безуспешно, к языку прилипли нежные акациевые лепестки, легкие коричневые кожурки от почек, еще что-то, мужчина отрицательно качнул головой: не надо, — он услышал слова Борисова.
— Сами сумеете подняться?
Мужчина смежил веки: Борисов помотал у его лица ладонью и ушел. Вечерний сумрак никак не хотел сгущаться — как был жидким, прозрачным, слабым, так слабым и остался. Свежие воронки, забитые камнями, недобро белели — камни в вечернем сумраке походили на крупные дробленые кости, напихали их в воронку кое-как, утрамбовали деревянными колотушками, но камни не улеглись, на подгонку их друг к другу нужно время, нужно, чтоб по этим белым засыпкам прошли танки, стены брошенных домов таяли в воздухе.
Светлана ожидала Борисова. Увидев его, улыбнулась по-девчоночьи открыто, блеснув крупными чистыми зубами.
— Писем не было? — спросил Борисов.
— Нет.
— Куда же подевался наш моряк?
— Выполняет какое-нибудь военное задание. В тыл к немцам ушел, а оттуда, как известно, письма не приходят.
— А если не выполняет, если…
— Не надо думать о «если», — быстро произнесла Светлана.
— Кроме белого цвета, есть черный, и бог знает сколько оттенков серого.
— Романтика цветов: вот это серый, вот это синий, вот это розовый, у каждого цвета свой символ, один цвет для любви, другой для горя… Все это очень условно!
— О синем и розовом я не говорил.
— Не суть важна. Иногда можно не говорить, только подумать, и этого уже достаточно.
— Гляди, что я принес. — Борисов вывернул карманы и высыпал на тарелку смятые цветы. В кухне запахло нежным садовым духом.
— Цветы-ы, — удивилась Светлана, — с кустарника, что ли?
— С акации Большого проспекта.
— Зачем ты их нарвал?
— Это не просто цветы, это первоклассная еда. Глюкоза и витамины, салат, который дают больным детишкам. В южных странах из этих цветов давят вино и масло, в Болгарии делают варенье. Я их ел — сладкие. Это тебе.
— Ел цветы?
— Да, ел. И не только я. Ленинград еще не снят с голодной пайки. И неизвестно, когда снимут. Завтра будем сажать хряпу. — Борисов выскреб цветы из-за пазухи — получилась довольно внушительная горка.
Светлана взяла несколько цветков, неохотно разжевала. Прислушалась к себе, стараясь понять, какие они.
— Съедобные? — не удержавшись, спросил Борисов.
— Вроде бы съедобные, — неуверенно проговорила она и вдруг резко замотала рукой. — Нет, не могу! — приподняла плечи углом. — Ты понимаешь, раз эти цветы съедобные — значит, деревьям гибель. Все будут объедены, целиком… Пацаны даже на макушку заберутся.
— Почему «гибель»? Разве деревья без цветов жить не могут?
— Существовать могут, жить нет[4].
— Совсем как люди. Хотя деревья — это не люди.
— Но душа у них есть, и боль они чувствуют так же, как люди.
— Очень спорная теория. Ты все-таки попробуй…
— Не хочу. Я не голодная.
— Неправда, ты хочешь есть, я по лицу вижу. — Борисов повысил голос. Собственно, а какое право он имеет быть резким? Кто ему Светлана — жена, сестра, близкая родственница? — Извини, чего-то я раскричался, как на рынке, — смутился он.
Вечер был совершенно невоенным, тихим. Потянуло гарью.
— Мне кажется, что Питер теперь всегда будет пахнуть дымом и пеплом, — сказал Борисов, — всю оставшуюся жизнь.
Светлана молчала.
Гарь стала чувствоваться сильнее. Такое впечатление, будто горел их дом. Но Борисов на это совсем не обратил внимания, он стоял с неподвижным, обиженно-отрешенным лицом, оглаживал пальцами горку цветов, совсем не прикасаясь к ним. Рука была костлявая, слабая, незащищенная, и эта незащищенность вызвала в Светлане тепло, она смахнула слезу с глаз, предложила неожиданно:
— Борисов, хочешь, я выйду за тебя замуж?
Мигом всплыв на поверхность самого себя, Борисов вздрогнул — не вопрос, а удар хлыстом. Отрицательно качнул головой.
— Ты чего? У тебя другие планы? — горьким, каким-то защемленным шепотом спросила Светлана.
— Нет. — Борисов вновь качнул головой. — Я не могу этого сделать. Понимаешь?
Он думал о моряке. Моряку тоже приглянулась Светлана. А раз приглянулась — значит, Борисов должен уступить: ведь моряк спас и Борисова, и Светлану, значит, по простой арифметике право выбора — его.
— Не понимаю.
— А как же моряк?
— Странная вещь: обычно мужчина предлагает женщине выйти замуж, а здесь наоборот.
— Не обижайся на меня, пожалуйста, — попросил Борисов. — А?
— Ты не мне причиняешь боль — себе.
— Верно, — согласился Борисов. — Но я не хочу чувствовать себя виноватым перед моряком.