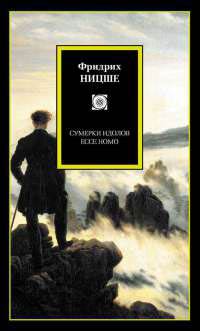Книга Северный крест - Альманах Российский колокол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Позволю себѣ здѣсь процитировать К.Свасьяна: «Сознание, загнавшее себя в тело, заблуждается, без того чтобы оно осознавало себя заблуждением, но и тело с таким сознанием «внутри» себя никак уже не может быть по-прежнему «нормальным». Реакция тела на портящее его сознание носит название болезнь. Болезнь – это способ, которым совершенное сознание, оригинал сознания (дух) дает о себе знать узурпировавшей тело копии сознания, делая её сознанием боли, или напоминанием о её первородстве. В этом смысле можно говорить о болезни как о светящихся в телесной тьме маяках сознания, предвещающих пробуждение в смерть из сна растительно-животной жизни»[15]. Еще одна – еще болѣе важная – его цитата (изъ его книги «Европа. Два некролога»): «Есть некая бесстыжесть в том, когда, рассуждая о „природе человека“, выдают эту природу за собственность каждого отдельного человека и выражают её притяжательными местоимениями. Но человеческая природа лежит не в (картезианской) шишковидной железе, не где-нибудь еще „в“ этом вот человеке. Она есть, с позволения сказать, мысль, и, как таковая, ни «моя», ни «твоя», а подчеркнуто и неопровержимо: мысль мира. „Моя“ мысль – это просто недомыслие или языковая привычка, по аналогии с „моей“ гипертонией или, скажем, „моим“ обменом веществ. Очевидно, что в обмене веществ, свершаемом на «мне» миром, я повинен не больше, чем дерево в «своем» росте или морская галька в «своей» гладкости, т. е., говоря со всей определенностью, я тут ни при чем. „Мой“ обмен веществ осуществляется без моего участия, хочу сказать: даже в качестве ученого физиолога я не обмениваюсь веществами, а только извне заключаю к свершаемому на «мне» обмену веществ, никак не желая взять в толк, что действительный СУБЪЕКТ этого процесса, милостиво позволяющий мне иллюзию собственнического сознания, – МИР, который я по философской недогадливости всё еще рассматриваю как объект. Со всей строгостью: я был бы вправе говорить о „моем“ обмене веществ (по существу, любом телесном процессе) лишь в том случае, если бы в моих силах было сознательно производить его, т. е. изживать некий процесс мира как самого себя. Так же обстоит дело и с мыслью, хотя в отличие от бессознательно-телесных отправлений шансы на притяжательное местоимение здесь УЖЕ реальны и осуществимы. Именно: моя способность мышления есть умение осознавать и сомыслить мыслящую меня мысль мира, т. е. мысленно рекапитулировать её становление в артикулированно логических усилиях воссоздания. Если же признать, что условием мысли является её помысленность, то и к природе человека апеллируют тогда лишь, когда природа эта мыслится, а, не скажем, ощущается или смакуется». И последняя, пожалуй, самая важная: «Таблица категорий, варьируемая от Аристотеля до Канта, дополняется в Штирнере новой и невозможной категорией. Более того: подчиняется ей. До всякой сущности, субстанции и чтойности здесь проставлено Я. Выяснилось: философы в усилиях познать мир упустили из виду «слона» (самих себя). Отсутствие Я («ктойности») в учениях о категориях было, впрочем, не столько упущением, сколько логически вынужденной слепотой. Категории, как высшие роды бытия, являются пределами обобщения, и поместить среди них индивидуальное можно было бы, только обобщив последнее. Но обобщить индивидуальное, значит устранить его. Говорить о человеке вообще, как говорят о столе вообще или льве вообще, средствами традиционной логики нельзя. Стол вообще или лев вообще возможны лишь в той мере, в какой их мыслят, а мыслит их некто логик. Не вообще логик, а вот этот вот. Но очевидно, что и логик, чтобы быть вообще логиком, должен быть помыслен. Кто же мыслит логика вообще? Разумеется, это может быть только кто-то конкретный, вот этот вот. Но чтобы мыслить себя вообще, то есть в сущности и как сущность, ему предстоит сущность эту в себе сперва осуществить. Реальные столы и реальных львов мы преднаходим, и, уже найдя их, мыслим их в их понятии. Преднаходим ли мы и себя, до всякой мысли? Неким напрашивающимся ответом был бы биологический минимум (человек как вид), если бы и для этого минимума не требовалась уже мысль. Но человек – это не биос, а логос, что значит: сущность его, или его понятие, которое, как понятие, должно быть общим, может в его случае быть только индивидуальным. Переход из зоологии в антропологию – metabasis eis allo genos. Потому что, если биологически есть только одно понятие человек, то логически (антропо-логически, а не зоо-логически) существует столько же понятий человек, сколько существует людей. Я нередуцируемо. Каждый человек в Я есть собственное понятие. Пусть, скорее, в смысле дюнамис, чем энергейа, но как раз переходом первого во второе и определяется мера человеческого в нем. Человек – это не природная данность и не социологический респондент, а должность, ранг, чин, призвание, если угодно. Человеком являются не по конституции (где речь идет о гражданах), а по самоосуществленности. Чтобы мыслить себя как человека, надо сделать себя сперва человеком. Иначе: так реализовать свое единичное, чтобы по нему затем и определялось всеобщее"[16].
* * *
Циклъ “Ex oriente lux” – пролегомены къ «Послѣднему Кризису», къ моему opus magnum, и повѣствуютъ пролегомены сіи о разнаго рода высшихъ людяхъ – безразлично, святые ли они или великіе грѣшники, добрѣйшей ли они души, или злы, какъ самъ Сатана, тишайшіе и смиреннѣйшіе ли они или обуянные сатанинской гордынею, интеллектуальны ли они или же они суть грозные воители, которымъ нѣтъ дѣла до книжной мудрости, цари ли они или нищіе.
Какъ сказалъ бы православный неправославнымъ языкомъ: М. прошелъ черезъ Сциллу Ариманову, но ввергся въ Харибду Люциферовыхъ искушеній. – Слова М. о самомъ себѣ – «Прочь отъ естества!» – ключъ къ разумѣнію М. – Онъ – въ первую очередь не люциферикъ, но люциферіанецъ[17]. – Здѣсь рѣчи не идетъ ни о нирванѣ, ни объ усмиреніи себи на манеръ люцифериковъ-христіанъ (казусъ «историческій христіанинъ»), или буддистовъ, или Шопенгауэра. Ибо не отъ Я отрекается Я М., но отъ міра, матеріи и плоти; и не желаетъ перестать быть М., но, скорѣе, желаетъ, чтобы міръ пересталъ быть. Въ М. нѣтъ вивисекціи Я, Воли, высокихъ страстей; потому онъ – живой, вѣчно-живой. Для православнаго одержимость любою страстью есть грѣхъ и не-свобода; для насъ: лишь одержимость страстьми низкими есть не-свобода, но М. одержимъ высокимъ, къ коему влекутъ – неудержимо – духъ его и Воля. Нѣтъ Свободы безъ Я, безъ Воли и высокихъ страстей. Нужно еще быть слишкомъ христіаниномъ, слишкомъ мало оторвавшись отъ материнской своей звѣзды, чтобы въ пламенности М. увидать слѣпоту – по той простой