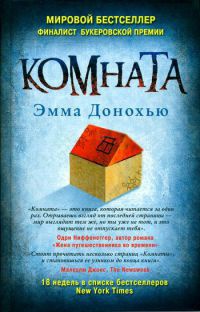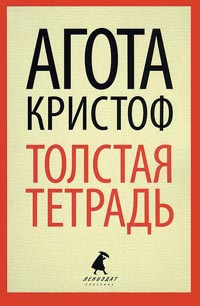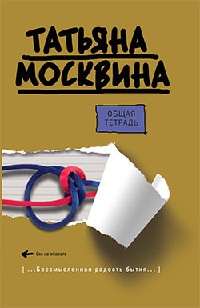Книга Бездна - Александр Лаптев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впереди была тьма. Бухта с поэтическим названием Золотой Рог была сокрыта от жадных взоров. Глухое непроницаемое пространство укрывало землю и стылую воду, скрывая очертания, путая чувства, вздымая первобытный ужас из глубины души. Казалось, что далеко впереди, там, где должен быть залив, находится гигантская впадина, до краёв заполненная вязкой тьмой. Тьма шевелилась, словно живое существо. Тьма готовилась принять очередную жертву – всех этих несчастных людей, бредущих под дулами винтовок, окружённых беснующимися псами с оскаленными клыками. Кругом всё словно вымерло. Ни огонька, ни отзвука. Всё затаилось в страхе, растворилось в беспредельности ночи. Лишь толпа вырванных из привычной жизни людей плелась навстречу своей судьбе, ни на что не надеясь, ни во что не веря, не жалуясь и не плача, воспринимая происходящее как злой рок – неумолимый и страшный в своей неотвратимости.
Этот скорбный пусть продолжался больше двух часов, но Петру Поликарповичу он показался нескончаемо длинным. В какой-то момент он потерял счёт времени, перестал понимать – кто он и где находится. Это медленное движение среди беспорядочно раскачивающихся тел, это сдавленное дыхание множества людей, эта качающаяся под ногами земля и весь этот абсурд затмевали сознание, отвращали от ненавистной действительности. В иные минуты Пётр Поликарпович закрывал глаза и шёл словно бы во сне. Наступало странное чувство покоя, он будто плыл куда-то, не прилагая к этому никаких усилий. Казалось, это движение будет продолжаться вечно, и он согласен всегда так идти! – только бы его не трогали, только бы ничего не менялось. Он смог бы так пройти тысячу километров – так ему тогда чувствовалось.
Но внутренние ощущения часто обманывают человека. Ни тысячу, ни даже сто километров Пётр Поликарпович не смог бы преодолеть. Да и не было в этом нужды. От лагеря до места погрузки было всего шесть километров. Пароход уже покачивался на маслянистых волнах у пирса, его необъятные трюмы принимали в себя разный скарб – доски для ремонта сломанных перегородок и нар, продукты и воду для недельного плавания нескольких тысяч заключённых, большие деревянные ящики с оборудованием и даже лошадей, для которых были устроены на верхней палубе специальные стойла. Лошадей было гораздо меньше, чем людей, и к ним относились очень бережно – для каждой было приготовлено отдельное стойло, рядом стоял бачок для питьевой воды, к бачку привязана кружка. Совсем не то готовилось для двуногих тварей. Во всех трюмах вдоль железных бортов были воздвигнуты многоярусные нары, насколько хватало высоты. Где-то они были в два этажа, а где-то в четыре. Нары стояли так плотно, что просвет между ними можно было пересечь вытянутой рукой. Заключённых загоняли на эти нары с тем расчётом, чтоб они не падали сверху. Впрочем, если кто и срывался во время качки или был выпихнут своими же соседями – тоже не беда. Внизу, под нарами, имелось небольшое пространство. Хоть там и плескалась мутная вода, в которой плавали мёртвые крысы вперемешку с блевотиной и человеческими экскрементами – но чего не вытерпит советский заключённый? Устроители всех этих лагерей и начальники этапов точно знали: советский заключённый выдержит всё, в том числе и такое, чего не сдюжит ни одна скотина. С таким расчётом и обустраивали все эти пароходы: до отказа набивали трюмы людьми, потом задраивали все люки и так шли до самого конца – по неделе, а то и по две. Качка ли была иль семибалльный шторм, сорокаградусный мороз или нестерпимая жара, как в преисподней, – всё это были мелочи, а лучше сказать – издержки производства, его неизбежные отходы. Кто-то и погибнет в пути – это никого особо не волновало (при таком обилии заключённых!). После каждого рейса трупы умерших в пути выносили на песчаный берег бухты Нагаево и складывали штабелями в сторонке. Иногда трупов было больше, иногда меньше. Но трупы были всегда. Да и как же без трупов, когда в переполненных трюмах не было ни вентиляции, ни даже иллюминаторов, а наверх никого не выпускали (кроме как на оправку два раза в сутки – это если заключённые вели себя смирно, а ежели они выражали недовольство, так их так и везли без глотка свежего воздуха до самого конца). Воду давали по раз навсегда установленной норме: по одной кружке в сутки на рыло. Кормили чёрным хлебом и ржавой селёдкой, которую почти никто не ел из-за морской болезни, что настигала заключённых уже на третий день пути. А ведь в трюмах были ещё и матёрые уголовники, отнимавшие у безответных «контриков» хлеб и воду, резавшие их за косой взгляд, за непочтительный ответ и просто от скуки. Конвой во все эти дела не вмешивался, следя лишь за тем, чтобы никто ненароком не выбрался из трюма на палубу. В таких стреляли без раздумий – на то был строгий приказ начальства. А как иначе удержать в повиновении несколько тысяч человек, медленно умирающих в железной утробе парохода, который строили для перевозки грузов, но никак не для перевозки людей, да ещё в таких количествах! Все эти прелести предстояло испытать на себе Петру Поликарповичу и его товарищам – и страшную июльскую духоту, и пересоленную селёдку, и стремительно нарастающую жажду, когда за кружку сырой невкусной воды устраивались кровавые побоища.
Среди глубокой ночи колонна приблизилась к причалу. От воды остро пахло гнилью, слышался плеск волн, скрипели канаты, трещали борта большущего парохода, стоявшего боком к причалу. Пароход мрачной тенью нависал над берегом, подавляя своими исполинскими размерами. Казалось невероятным, что такая громада держится на воде, что она способна принять все эти толпы, а потом куда-то плыть. Широкий деревянный трап, поднимавшийся на борт, сотрясался от множества ступавших по нему людей. Погрузка шла полным ходом. Конвоиры вытянулись цепочкой с двух сторон, оставляя узкий проход для заключённых. По мере приближения к трапу скорость движения нарастала. Впереди слышались злобные крики, мутным потоком лилась отборная ругань, в ход шли приклады и пинки; заключённые торопились ступить на ходящие ходуном доски и взойти на борт.
– Живей шевелитесь, падлы! – услышал Пётр Поликарпович. Быстро обернулся и увидел перекошенное лицо конвоира. Тот смотрел на него, в глазах его сверкало бешенство. Пётр Поликарпович поспешно отвёл взгляд, сделал несколько торопливых шагов и ступил на отвесный трап. С трудом удерживая равновесие, одолел десятиметровый подъём и спрыгнул на железную палубу, едва не подвернув в темноте ногу. Прихрамывая, поспешил за товарищами. Думать было некогда – толпа увлекала его за собой: вдоль железного борта мимо палубных строений, каких-то ящиков, торчащих из палубы цилиндров. Последовал подъём по короткой отвесной лестнице, ещё усилие, и он увидел большой открытый люк и ведущие вниз ступеньки. Заключённые торопливо спускались по этим ступенькам в кромешную тьму. Но это был ещё не конец. Внизу оказался ещё один люк и последний спуск – теперь уже на самое дно. Там-то и предстояло им всем найти себе место. Пётр Поликарпович, спускаясь по узким ступенькам, ударился коленом о железный угол, ткнулся боком в торчащий штырь, но сгоряча не почувствовал боли. Нужно было поскорей занять место где-нибудь в углу, вырваться из общей суматохи, когда никто ничего не понимает и все мечутся как в лихорадке. Все вокруг тоже хотели поскорей найти себе укромный уголок, переждать бурю. Лезли на трёхэтажные нары, забивались в самый угол и успокаивались до поры. А народ всё прибывал, лестница тряслась и грохотала, трюм быстро наполнялся заключёнными, и скоро все нары были уже заняты, так что некуда было лезть и прятаться.