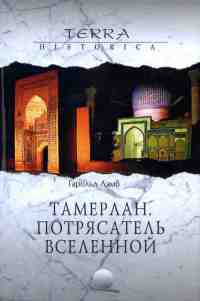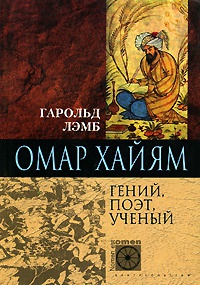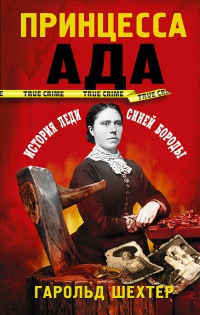Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но когда мы слышим раскаяние Фауста? Да, Фауст умирает — но, учитывая, что ему сто лет от роду, — вполне своевременно. Нераскаявшийся, непрощенный, всю жизнь бывший заодно с Дьяволом, он удостаивается моментального спасения, как и приличествует тому, чье имя означает «предпочтенный». Это несправедливо, совсем не по-католически, да и вовсе не по-христиански, если иметь в виду любое хоть немного ортодоксальное христианство. Гёте беззастенчиво подчинил католическую мифологию и Дантовы структуры своей собственной мифопоэтической системе, такой же индивидуальной, как Блейкова, но куда более охотно заигрывающей с внутренними противоречиями, как бы даже приглашающей их. Если Фауст и попадает в высшие сферы, то лишь потому, что его грехи были искуплены в духовном лоне эзотерического гётеанства. Христианство и Христос — лишь одна из мелодий мифопоэтического контрапункта, звучащая под занавес второй части «Фауста».
Заключительные строки — это Гётев чувственный высокий романтизм в чистом виде: «Здесь — заповеданность / Истины всей. / Вечная женственность / Тянет нас к ней». Куда? Фауста тянет к ней не Богоматерь, но Маргарита с Еленой. Гёте тянул к ней величественный ряд Муз, увековеченных в его стихах. Католический колорит финала второй части — не более и не менее чем очередное проявление контрканонического начала в Гётевом пожизненном триумфе языка и личности.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЭПОХА
Некоторые музыковеды утверждают, что Монтеверди, Бах и Стравинский — три величайших новатора в музыкальной истории, хотя утверждение это и остается спорным. В канонической западной поэзии есть, на мой взгляд, всего две подобные фигуры: Петрарка, который создал поэзию Возрождения, и Вордсворт, который, можно сказать, создал современную поэзию, сохраняющую преемственность на протяжении вот уже двух столетий. В терминах Вико — коль скоро я выстраиваю эту книгу с их помощью — с Петрарки началась лирическая поэзия Аристократической эпохи, вершиной которой стал Гёте. Вордсворт благословил (или проклял) западную поэзию Демократической/Хаотической эпох, постановив, что стихи не пишутся «о чем-то». Их предмет — сам субъект, либо присутствующий в тексте, либо отсутствующий в нем.
Петрарка создал поэзию идолопоклонства (по выражению Джона Фреччеро); для Вордсворта, по словам Уильяма Хэзлитта, поэзия была tabula rasa, и он заполнил этот чистый лист своим «я» — точнее сказать, памятью о своем «я». Во второй Теократической эпохе, скорое наступление которой я, вслед за Вико, с тревогой предвижу, поэзия, как мне представляется, отойдет и от аристократического идолопоклонства, и от демократического памятованья, чтобы вернуться к более ограниченной, духовной роли — хотя я не уверен, что предмет поклонения всегда будет называться Богом. Вордсворт, так или иначе, — начало, хотя, как всех великих писателей, его преследовали тени героических предшественников, прежде всего Мильтона и Шекспира.
Может показаться странным, что Вордсворт делит эту главу с Джейн Остен, но Остен, родившаяся на пять лет позже него, была его младшей современницей; и, хотя он и пережил ее на треть столетия, все главные его стихи были сочинены прежде, чем она начала печататься. В центре литературного космоса Остен были ее предшественники на романной стезе — Сэмюэл Ричардсон, Генри Филдинг и доктор Джонсон. У нас нет подтверждений тому, что она читала Вордсворта, — как и тому, что Эмили Дикинсон читала Уитмена; но в поздних романах Остен, главным образом в опубликованном посмертно романе «Доводы рассудка» (1818), ставятся те же проблемы, что и у Вордсворта, поэтому я и решил сопоставить позднюю Остен с ранним Вордсвортом, в первую очередь со следующими тремя стихотворениями: «Старый камберлендский нищий» (1797), «Разрушившийся дом» (1798) и «Майкл» (1800).
Вордсвортовы эпическая «Прелюдия…» и триада великих «кризисных» стихотворений — ода «Отголоски бессмертия…», «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…» и «Решимость и независимость» — поэзия более влиятельная и даже более возвышенная. Но в выбранных мною трех стихотворениях есть ужасная пронзительность, которой и сам Вордсворт в других вещах не достигает; с тех пор как я начал стареть, они едва ли не сильнее, чем любые другие стихи, трогают меня своим изящно управляемым пафосом и эстетическим достоинством в изображении частного человеческого страдания. У них есть аура, присущая, кроме ранних вещей Вордсворта, только поздним вещам Толстого и кое-чему у Шекспира, а обыкновенное общечеловеческое горе изображено в них сурово и просто, без примеси всякой идеологии. С наступлением XIX века Вордсворт как поэт стал больше походить на Мильтона, но на пороге тридцатилетия он был шекспирианец: в «Жителях пограничья» переписывал «Отелло», а в нищих, коробейниках, детях и безумцах улавливал что-то от качеств Иова, которые есть в «Короле Лире». Вот необычайный зачин «Старого камберлендского нищего»[316]:
Помнится, когда я писал об этом фрагменте в книге, опубликованной треть столетия назад («Кружок визионеров», 1961), то объявил, что Старый камберлендский нищий отличается от прочих нищих отшельников Вордсворта тем, что не является посредником откровения: он не подталкивает поэта к избранному моменту видения. Теперь мне кажется, что я был слишком юн, чтобы правильно понять этот фрагмент, хотя мне и было чуть больше лет, чем было Вордсворту, когда он его сочинил. Все стихотворение, все примерно двести его строк — это мирское откровение, раскрытие последних вещей. Если существует такое внутренне противоречивое явление, как богооткровенное и в то же время естественное благочестие, то вот оно: старый нищий и горные птички, солнце, освещающее кладку камней, дождь из крошек, просыпающихся с дрожащей руки. Это потому откровение, что являет Вордсворту (и нам) высшую ценность — человеческое достоинство, сохраненное человеком в самом безобразно униженном положении, дряхлым нищим, едва сознающим свое состояние. Под рефрен «И он идет дальше, одинокий Человек», Нищий изображается в стихотворении таким старым и дряхлым, что «…к земле / Обращены его глаза, и, когда он идет, / Они не поднимаются от земли».