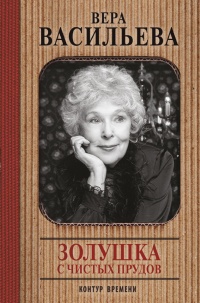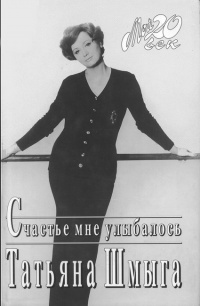Книга Елена Образцова. Голос и судьба - Алексей Парин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ария Марины «Как томительно и вяло» (которая в спектакле Большого всегда купировалась) звучит у Образцовой броско и шикарно. Голос подчеркнуто звонок, блестящ, победителен. Чувственные пассажи звучат акцентированно иронично, с дистанцией высокомерия. Взгляд Марины на себя со стороны проинтонирован убедительно. Но во всей арии есть какая-то искусственно-внешняя, манерно-«парадная», слишком уж снижающая атмосфера, как будто Образцова старательно отгораживается от своей вальяжной, увлеченной интригами панны. Мы воспринимаем этот короткий портрет скорее как изящный росчерк пера, импровизированный эскиз.
В сцене с Самозванцем Образцова пользуется более разнообразными красками. (В партии Самозванца записан Алексей Масленников, который убедительно передает содержательную сторону роли, но пользуется иногда певческими красками (например, parlando), вступающими в противоречие с вокальным инструментарием Образцовой.) Первая реплика «Димитрий! Царевич! Димитрий!» произносится вполголоса, и чувственный голос, полный неги и соблазна, сразу говорит о приходе Красавицы. Отповедь, которой Марина останавливает любовные признания Самозванца, Образцова насыщает ехидными ироническими «подкалываниями». Раздражение, жесткость проступают в последующих репликах, и высокомерная претензия на высшую власть заявляет о своих правах. Образцова — мастер тембральных красок, и ей ничего не стоит упаковать в свой голос какую угодно эмоцию, какой угодно привкус. Но здесь, в образе Марины, она не проникает в самую суть образа, в его внутреннюю природу. Голос Образцовой скользит по поверхности внешнего рисунка, и этот рисунок, конечно же, чарует нас, потому что роскошный голос способен кого хочешь «охмурить». Но вслушиваешься — и чувствуешь швы между личностью Образцовой и ее кичливой шляхтянкой. Разве что когда она поет: «О царевич, умоляю, о, не кляни меня за речи злые», мы готовы принять ее любовный лепет за чистую монету. Особенно когда голос набирает силу и выходит на широкие просторы такого китчевого, такого итальянизированного пафоса! Ну, кто может устоять перед этим обаянием? А уж экзальтированное признание: «люблю тебя, о мой коханый!» и вовсе способно свести с ума не только одного Самозванца. Наверное, этот пассаж всегда и сообщает образцовской Марине всю уникальность, заставляет нас забыть все недочеты в общем понимании роли.
В трех фрагментах из опер Римского-Корсакова представлены «земные» героини, которые в каждой из опер противопоставлены — по образцу вагнеровского «Тангейзера» — возвышенным, «небесным» созданиям. Впрочем, каждая из этих героинь и этих пар устроена по-своему, и этот «общий знаменатель» достаточно условен. В опере Вагнера (и «Князе Игоре» Бородина) на стороне меццо-сопрано вся чувственность и весь любовный соблазн, а на стороне сопрано — душевная чистота и высота помыслов. В парах Римского-Корсакова соотношение сил иное.
Первой предстает нашему слуху Любава из оперы «Садко», нелюбимая жена свободолюбивого и рвущегося в широкий мир гусляра-поэта. Образ, не слишком подходящий Образцовой: что-то нудное есть в этих унылых причитаниях, что-то пораженческое, пресное, недалекое. Представить себе Образцову «лузером» просто невозможно. Конечно, есть в ее репертуаре Сантуцца из «Сельской чести» Масканьи, но то требует особого разговора, там Образцова ставит такие акценты, что тема поражения, ущерба уходит на задний план. Любава противопоставлена волшебной царевне Волхове, которой дана нежнейшая, красивейшая музыка. Так что Любава проигрывает не только в глазах Садко, но и во мнении публики. Образцова пытается оправдать свою несчастную героиню нежным, сиротским голосом, которым начинается ария. Любава рисует образ своего пытливого мужа, «регистрирует» его смелые устремления — но музыка стелется по земле, и мы понимаем, что она смотрит на все это со стороны, не вникая в суть, не стараясь постичь внутренний мир Садко. Да и воспоминания о прежних любовных радостях не слишком уж окрашены внутренним светом. Образцова не приукрашивает свою героиню, и ей приходится туго: что-то неискреннее угадываем мы в ее истонченном, притворно-слезливом голосе.
Любава жалуется на жизнь, а нам ее не жалко: Образцова словно не сочувствует ей, поет ее музыку как чужую, не присваивая ее себе. Она пела Любаву на сцене Большого театра в пышном, парадном спектакле, и в контексте сценографических роскошеств ее роль, помещаемая в будничный антураж, тем более снижалась. Прекрасная певица, певшая Волхову, по слухам, прекрасно варила борщи и жарила котлеты, и ей бы по образу была бы ближе приземленная Любава. А возвышенной душе Образцовой куда как знакомее волшебства вещей царевны! Но композитор распределил голоса по-другому! Римский-Корсаков не сумел дать арии Любавы полноту чувства, оставил свою земную героиню без каких-то живых, притягательных красок, и Образцовой не удается возместить эту нехватку эмоциональности. И даже завершающая финальная фраза с ее горестной констатацией «меня не любит милый мой, ему постыла, видно, я» ничуть нас не трогает, повисает невостребованной заплачкой.
Иное дело — роль Любаши в «Царской невесте». По объему роль не так уж велика, но ее можно смело назвать пружиной и узлом всей оперы. Любаша — страстная натура, которая не может смириться с поражением, с изменой возлюбленного, и она идет на преступление, на сделку со своей совестью и своим человеческим достоинством. Такая необузданная широта души идеально подходит и уникальному вокальному инструменту, и бескрайнему внутреннему миру Образцовой. Здесь есть что присваивать, есть что оправдывать, есть что любить и за что бороться. Могучая любовь превращает образцовскую Любашу в достойную сострадания страстотерпицу, потому что всю грязь и весь свой позор она сама переживает как страшное, изматывающее горе. Она самая строгая судья себе самой, и то, как она умно и точно направляет удар ножа Грязного в собственное сердце, говорит о том, что она трезво и жестко свела счеты со своей совестью.
На диске представлена вторая половина второго акта (Бомелий — Геннадий Ефимов). Начинается весь эпизод с подглядывания: Любаша хочет своими глазами убедиться во внешних достоинствах соперницы. Взволнованно, настороженно, пылко начинает Образцова портретирование своей несчастной героини. Как тонко показывает она внутреннее торжество Любаши, ласковым, сочувствующим, мягким голосом перечисляя все банальные прелести соперницы: «Да, недурна, румяна и бела, и глазки с поволокой». А подытоживающая фраза спета с умиротворением и даже добротой: «Разлюбит скоро Григорий эту девочку!» Внезапная перемена охватывает весь голос Образцовой, когда она видит истинную «разлучницу»: «Ах! Это кто?» стреляет в воздух, как после нажатия курка. Такой взвинченности мы не ждали, мы до этого видели перед собой женщину, уверенную в своих силах. Паника овладевает Любашей, и мы верим ей, что у нее «голова горит», столько ужаса перед судьбой звучит в быстрых фразах.
В диалоге с Бомелием Любаша поначалу почти не показывает своей смятенности, хотя в истовости описания, как должен «известись» ненавистный человек, конечно, сквозит исступление одержимости. Фраза «На пытке не скажу, откудова взяла» спета с таким бесконечным отчаянием, что мы готовы кинуться на помощь Любаше. Потом она опять берет себя в руки, перечисляя драгоценности, которые готова отдать за «зелье». С удивительным женским обаянием Образцова поет свои вопросы, которые приведут ее в конце концов к страшному ответу Бомелия: «Заветный, что ли?», «А что же ты завету хочешь?», она как будто бы пускает в ход все свои женские чары, чтобы уломать Бомелия и добиться своего. Зато ответ Любаши на грязное предложение лекаря звучит взрывом: «Что? Немец, ты умом рехнулся?» — как будто стальные клинки рассекают воздух. Но начинается грубый шантаж. И не задумываясь, доведенная до отчаяния, до нервного срыва Любаша униженно молит того, кого она презрительно называет за глаза «нехристью». В голосе Образцовой столько самоотречения, столько самоистязания, что мы только диву даемся, как такая гордая и высоко себя ставящая натура может снести подобное унижение. А фраза, относящаяся к «разлучнице», «Заплатишь же ты мне за этот смех!» переносит нас в другой угол внутреннего мира Любаши, угол, где творятся тайные убийства. И Образцова мастерски динамично переходит своим голосом из одной области чувств в другую. И тут же еще одна грань души: «Я согласна. Я постараюсь полюбить тебя» — эти фразы начинаются как будто умиротворенно, в попытке убедить себя в неизбежности этого шага, но заканчиваются таким срывом в отчаяние, который нельзя скрыть ни перед собой, ни перед нами.