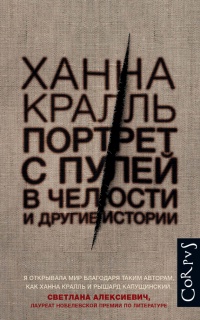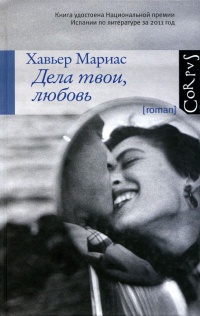Книга Лабиринты - Фридрих Дюрренматт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Раз уж мне до поры до времени не осталось ничего, кроме как мыслить, я решил, дай-ка я попробую освоить мышление, как прежде осваивал инструменты и прочее, нужное для рисования, или как, принимаясь писать, учился, всегда безуспешно, пользоваться языком как своим инструментом. Получились предположения. Но все-таки изучение Канта стало принципиально более важным для меня, чем я тогда мог хотя бы почувствовать, прежде всего изучение «Критики чистого разума». Кант не занимался в рамках теории познания критикой языка и понятий в нашем сегодняшнем понимании этой критики, но у него все же есть ее начала. Безусловно, Кант завершает эпоху Просвещения, но так же безусловно то, что с него начинается современная философия, если под современной подразумевать философию, которая не отгораживает себя от математики и физики, как она весьма охотно делает это в наши дни. Математика и физика могли бы далее развить и опровергнуть кантовскую критику разума. Она резко разделяет знание и веру. Четко очерчивая область познаваемого, она тем самым ограничивает и набор инструментов, находящийся в распоряжении человека, – его мышление. У Канта об объекте может быть высказано лишь нечто «человеческое». Мышление структурировано как присущее самому человеку, оно не является внешним по отношению к человеку, чем-то, обладающим своим «бытием» вне человека. Ничего нельзя сказать о «вещи в себе», но это означает также, что нет языка и нет понятий. Сама «вещь в себе» – не понятие, она представляет собой барьер, по ту сторону которого уже нет понятий, тем самым нет и воззрений, они находятся внутри «вещи в себе»: сам этот барьер как бы лишь с внутренней своей стороны представляет собой понятие. Это пограничное понятие, нечто мыслящееся, созерцаемое, то, что отбрасывает мысль, отражает в виде формулы, теории, гипотезы и т. д., отбрасывает мысль обратно на того, кто мыслит, на субъекта. Все, что по ту сторону барьера, – метафизика, принадлежит вере и может быть безразлично или небезразлично субъекту, в этом заключается свобода субъекта. Однако по-настоящему важной «Критика» стала для меня – и поныне осталась, как я понял только сейчас, когда пишу эти строки и заново вдумываюсь в ее содержание, – потому, что она – философия крушения. Мне кажется, именно в этом ее значение. Поскольку ставится непреодолимый барьер, постольку ставится и неразрешимая проблема, вопрос, на который не может быть ответа. Таковы все вопросы о вещи в себе. Из области познаваемого нет в принципе выхода в такую область, откуда можно было бы окинуть взглядом познаваемое, охватить его системой. Кант замуровал выход из лабиринта, остается только «прыжок через стену», вера, парадокс Кьеркегора. (В этом отношении диалектика веры, религиозный экзистенциализм Кьеркегора непосредственно смыкается с учением Канта, как и современные логико-математические теории познания.) По Канту, человек должен мириться со своим существованием в лабиринте; Кант принес избавление Минотавру, но не как Тесей, Минотавра убивший, – Кант спас его тем, что превратил в человека, научил выносить заключение в тюрьме своего знания и дал его духу свободу разрушить тюрьму, для чего он должен признать тюрьму тюрьмой. Это может показаться двусмысленным, прежде всего тому, кто поверил, будто бы он нашел выход из лабиринта с помощью знания, с помощью нити Ариадны, а также, в конце концов, и тому, кто думает, что знание и вера не дополняют друг друга, а образуют противоположность, в которой либо знание, либо вера полагается как нечто абсолютное, и кто не находит ничего парадоксального ни в вере, ни в знании. (С точки зрения теории познания знание также есть нечто парадоксальное; то есть со времен Канта проблема познания осталась принципиально неразрешимой.)
Эти соображения я записываю спустя сорок с лишним лет после того, как бросил занятия на философском, однако импульс моего мышления был и остается гносеологическим. Эта инертность и есть причина моих неурядиц с причесанными под марксистскую гребенку интеллектуалами. Они думают, я не ангажирован или циничен, если, конечно, они вообще обо мне думают. Я представитель другой философской фауны, меня считают беззащитной добычей любого охотника. Если сначала я не был марксистом, так как не знал, что такое марксизм, то, учась в университете, я не мог стать марксистом, потому что уже узнал, что он такое. Пусть Маркс и перевернул якобы стоявшее кверху ногами учение Гегеля – все равно понятия Маркса остались столь же метафизическими, как понятия поставленного им на ноги учителя, словом, что в лоб, что по лбу; а что касается партии, она такое же мистическое понятие, как церковь.
К изучению Канта добавилось изучение Кьеркегора. Сильней всего на меня подействовали его «Болезнь к смерти», «Страх и трепет» и «Понятие страха». Для диссертации я выбрал тему «Кьеркегор и трагическое», опять-таки не подозревая о ее воздействии на мое будущее, о взрывчатке, которая таилась в этой работе, ведь Кьеркегор стал для меня даже важнее, чем Кант: без Кьеркегора меня как писателя не понять. В вопросах драматургии Кьеркегор – единственный наследник Лессинга, и не только потому, что он показывает границы трагического героя, а значит, и границы трагедии, а потому, что он «драматургически» мыслит. В диалектическом ракурсе им увидены не понятия, а «позиции». Трагический человек детерминирован своим отношением к всеобщему. Всеобщее – это этическое. Трагический человек своей виной нарушает этическое, какой бы благородной ни была мотивация, более того, даже если сам он без вины виноватый. Своей смертью он восстанавливает порушенное всеобщее. Религиозный же человек детерминирован своим отношением к Богу. Религиозный человек, по Кьеркегору, одинок. Он не подчинен всеобщему. В нем особенное стоит выше всеобщего. Он как бы занимает некоторую позицию по отношению к самому себе. Он вступает в такое отношение, которое, чтобы вообще стать отношением, должно быть основано на парадоксе. Только через парадокс религиозный человек Кьеркегора может быть понят как диалектическое существо и тем самым может быть понят «драматургически», потому что Бог дает свое откровение только в вере. Это положение справедливо вне зависимости от веры в Бога, но и с точки зрения знания – ведь применительно к «одинокому» тоже существует проблема теории познания – о нем нельзя сделать какой-то вывод исходя из всеобщего. Именно индивидуальная позиция по ту сторону веры и знания является той областью, в которой отдельный человек свободен. Вот эти моменты и стали решающе важными в моих дальнейших размышлениях. Своему времени, притворявшемуся христианским, Кьеркегор противопоставил христианство как идею. Но сам он был христианином лишь по своему мышлению. Бог был для него лишь фикцией, о Боге он мог размышлять, но уже не мог в него верить, это и рождало его печаль. Сегодняшние теоретические представления о структуре атома мне кажутся убедительными, но я считаю их опровержимыми, Бога я уже не считаю доступным мысли, а в то, что недоступно мысли, я верить не могу. У Кьеркегора человек благодаря своей вере возвышается над трагическим, но также и над понятным с точки зрения этики, он становится непонятным, одиноким, – этот диалектический процесс Кьеркегор сумел описать, но не воспроизвести, хотя он снова и снова утверждает обратное. Он остается вне веры. При таком взгляде извне – эстетическом, «драматургическом» – в религиозном (но также и в категории отдельного) возможны только комедии, трагедия превращается в комедию.
Этот вывод в то время не мог быть понят также и мной, я все еще был пленником мира-лабиринта, против которого бунтовал. (Мой мятеж, мятеж одиночки, не носивший социального характера, выражал позицию, которая лишь потому не является бессмысленной, что только благодаря ей одиночка понимает самого себя, поскольку он восстает против себя. Это был субъективный мятеж, и как таковой он был субъективно необходим, тогда как объективный общественный мятеж оправдан в институциональном плане, только если он происходит не во имя идеологических и тем самым метафизических целей, а с самыми обыкновенными политическими целями, как чаще всего и бывает, и во имя этих-то целей, которые на самом деле представляют собой замаскированные догмы, противостоящие другим догмам, бессмысленно проливается кровь, как когда-то в ходе религиозных войн, ведь ничто не проливается так бессмысленно, как кровь.) Недаром позднее, после окончания войны, снова начав писать, в последний мой год на философском, я набросал «Город». Рассказчик там пытается путем рассуждения разобраться в необозримом лабиринте коридоров, где в стенных нишах друг против друга сидят пленники и стражи, в подземном мире, где и сам он – один из стражей, вернее, он на это надеется, так как вполне возможно, что он пленник. То есть его вопрос – это вопрос не только об устройстве мира (этим вопросом задается и призрачный солдат из «Зимней войны в Тибете»), но еще и о его собственной свободе в мире. Ответ на двойной вопрос рассказчик может получить, если он решится исследовать тюрьму научным образом и затем ее покинуть. Однако научное исследование, как выясняется, невозможно: сидя в тюрьме, можно размышлять о тюрьме, но невозможно вынести о ней научное суждение. Остается вопрос о свободе, нехитрое дело – пройти несколько шагов до двери на волю. Тогда разрешилась бы ситуация рассказчика: если он сможет переступить порог тюрьмы, его свобода станет действительной, не воображаемой, не выдумкой и не надеждой; если его задержат у выхода, его несвобода станет фактом и его опасения подтвердятся. Но он не отваживается сделать эти несколько шагов. Остается в своей нише. И останется в ней навеки (как ФД-3 и ФД-4 перед Кирхенфельдским мостом). Он пытается понять мир посредством чистого мышления, начертить «общий план», эти попытки он будет предпринимать снова и снова, прибегая ко все новым спекуляциям, потому что он не желает признать невозможность своего мыслительного предприятия, но и бросить его не решается. Он становится метафизиком. От отчаяния. От страха узнать истину.