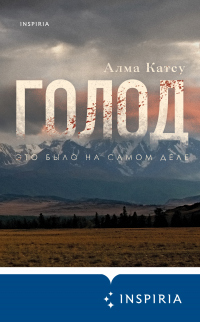Книга Балканский венец - Вук Задунайский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Может, изловим эту козочку? Какие у нее глазки, какая кожа! Такой персик нельзя не отведать.
– И готов ты прыгать по скалам подобно козлу? А потом обрасти шерстью и получить украшение в виде рогов?
Заржал Якуб как настоящий жеребец:
– За ночь с такой козочкой не жаль и рога потаскать. Мне не жаль, ага!
Приподнялся в стременах Урхан-ага, поднял вверх правую руку, и голос его прогремел в ущелье:
– Братья, кха! Возьмем в руки чапары[189], наденем на головы колпаки! Музыканты – бейте в барабаны, стучите в бубны! Мы войдем в эту грязную деревню не как бродяги, ищущие кров, но как хозяева! Пусть гяуры знают, кто идет к ним, пусть готовят достойную встречу!
Громкие крики да стук оружия встретили эти слова. Так новые воины изъявляли свою радость – они были хозяевами на этой земле, они были сильны, а если смерть и забирала их, то в райских кущах ждали их толпы гурий, готовых к соитию. Они шли и выкрикивали слова песни, которая была неверным хуже ножа под сердце:
Минареты – наши клинки.
Купола – наши шлемы.
Правоверные – наши воины.
Это войско ждет призыва.
Хвала Всегомущему творцу неба и земли!
Так вошла семнадцатая орта в деревню Медже, которую местные гяуры называли Радачевичи. Непростая то была орта. Чергеджи называлась она, и означало сие, что шатры ее разбивались напротив шатров султанских, когда стоял тот военным лагерем, и то была высокая честь, дарованная орте за славные дела ее. И вел ее Урхан-ага, славный воин. От диких босанских гор до полноводного Евфрата, от египетских песков до серых маджарских крепостей нес он имя Всемогущего творца неба и земли и волю Великого Султана, наместника Его на земле, и ни разу не был побежден. Но перебежала им дорогу простая девчонка, и не к добру это было. А когда вошли они в деревню, не увидели там ни души, неверные все попрятались по домам. Только собаки их завыли за заборами да заволновались в стойлах лошади – так всегда встречали новых воинов, куда бы ни шли они, как будто не люди это были из плоти и крови, а покойники. А неверные, за стенами домов своих сидючи, тихо перешептывались: «Поколичи, поколичи пришли!»[190]– крестясь при том.
* * *
Задымился пилаф в походных казанах, распространяя по округе запахи, ласкающие ноздри. Непростой то был пилаф, только настоящий воин мог съесть плошку такого и не свалиться замертво от заворота кишок. Топился в казане курдюк до тех пор, пока не становился он золотистым на вид и не таял во рту. Потом жарили в том жиру куски молодого ягненка. Когда же аромат мяса становился совсем нестерпимым и влекущим, заливали в казан воду и тушили зирвак[191], куда сыпали булгур[192]да специи индийские, кои жаловал султан своим милым овечкам, хотя и ценились те специи на вес золота.
Ягнятину же на пилаф воины всегда добывали себе сами. Нет, не крали они ее у крестьян – воровство среди воинов не в чести было. Просто брали то, что принадлежало им по праву, убивая всех, кто имел что-то против. Потому и стали глупые крестьяне все меньше разводить ягнят и все больше – нечистых животных. Вот что делает с людьми нежелание делиться добром своим с ближними! И все чаще стали неверные подкладывать свинью воинам веры истинной. Бывало, придут они в иную деревню на праздник рождения пророка Исы, зная, что в тот день принято у неверных зажаривать туши ягнят. Идут и уже чуют ласкающий ноздри запах жареного мяса. Но что видят они по приходе? На месте ягненка – свинья на вертеле крутится, и жир от нее скворчит да стекает на угли. Нечистые – они и есть нечистые.
Дымился пилаф в походных казанах, кои были для янычар все равно что знамена – дорожили они казанами своими, как неверные дорожили кусками материи с крестами на них, и брали их с собой даже на поле брани, защищая ото всех врагов, ибо не было хуже позора для орты, чем оставить казан свой у неприятеля.
Крепко встала семнадцатая орта в деревне Медже, которую местные гяуры называли Радачевичи, и слово это непроизносимо было для османов. Но Урхан-ага выговаривал его с легкостью. Давно уже приметил он, что понимает язык рацей[193], бывший в ходу среди гяуров на крайнем западе Богохранимой империи. У этого могло быть только одно объяснение – видать, был он родом откуда-то из этих мест, но, как и всякий янычар, не мог помнить про то. Взятые по девширме[194]мальчики колдовством бекташей лишались памяти, и первое, что знали они в жизни, – это пробуждение в ачеми оглан[195]с окровавленными тряпками на головах, в жару и бреду. Многое об этом могли бы поведать дервиши – но разве ж от них услышишь лишнее слово?
Урхан-ага не помнил ни детства своего, ни родства, как и все братья его. Отцом янычар был сам султан, а матерью – война. Иные родичи были им без надобности. На память о прежней жизни остались у него, как и у прочих братьев, только разумение языка неверных да шрам на темени – теперь уже совсем не видный даже на гладко выбритой коже головы, а пук волос, что оставляли себе воины по обычаю, и вовсе скрывал следы посвящения. И странно было Урхан-аге представить, что было бы, если б в девширме взяли тогда кого-то другого и остался бы он, Урхан-ага, славный воин, не утверждать среди гяуров со всех концов света веру истинную, а рыться в свином навозе да ходить за коровами. Но судьба его была иной, и он был рад тому.
Воин выше крестьянина, ятаган сильнее сохи. Не будь нового войска – не увидал бы Урхан-ага блистательного Истанбула, не проливал бы кровь неверных на его стенах, не подчинялись бы воле его закованные в железо маджарские рыцари и надменные мамлюки[196]. Кабы не фирман султанский[197], так и остался бы Урхан-ага в своей деревне убогой, копался бы в земле да дрожал пред господами своими. Янычаром же не боялся он никого, ибо не было у него иного господина, кроме Великого Султана, да продлятся бесконечно дни его и да покорятся ему все владыки Запада и Востока! А что люди обходили его стороной, дети плакали, едва завидев, а собаки выли – так невелика была в том беда, меньше под ногами крутиться будут. Коней же, норовивших сбросить, можно было объездить, а если артачились – так наказать.