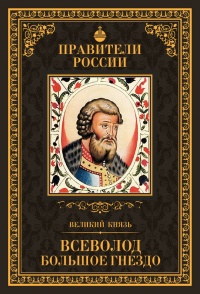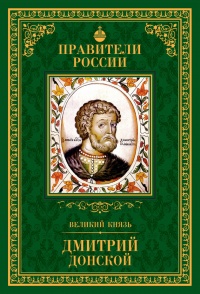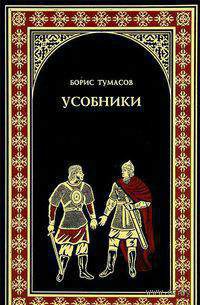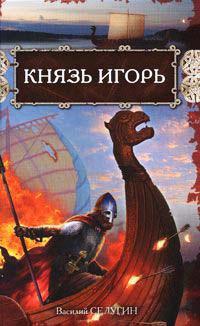Книга Великий стол - Дмитрий Балашов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– С одной души авось не утонем! А ето што тута за старуха?
– Матки моей сеструха! – соврал Скворец и добавил для жалостности (уж врать дак врать!): – Мужика убили у ей, задавили, вишь, дак она в татарском платье убегла…
– Ну, вали! – разрешил, подумав, хозяин. – Народ тощой, двои за единого сойдете!
Только когда уж паузок отплыл и стало ясно, что их не схватят и не уведут, Скворец, малость придя в себя, начал припоминать, сколь товару пропало у него в брошенной лавке, и затосковал даже, вспомнив бирюзовое седло и красные кожи, коими, ежели их не сперли татары, воспользуется, конечно, пакостный сосед, Мустафа. Впрочем, мысленно пересчитав серебро, что было за пазухою, Скворец малость повеселел и уже в голос окликнул спасенную им старуху:
– Слышь, мать, недосуг прошать было тебя, как зовут-то именем? Не ровен час спросят, а я свою родню-природу и назвать не умею!
Старуха пошевелилась, до того она молча сидела, вжавши сухое тело меж кулей, и недвижно глядела в воду, которую гребцы уже кончали разбивать широкими долгими веслами. Смоленый парус был поднят, и горячий ветер пустыни, надувая толстину, начинал кренить и колыхать бокастый паузок. «Суши весла!» – донесся голос старшого. Два-три запоздалых гребца еще ударили вразброд по воде, прочие уже вынимали весла из уключин и укладывали вдоль набоев. Старуха, вздрогнув, плотнее закуталась в засаленный и рваный ордынский халат. Глухо звякнули медные кольца в головном уборе.
– Из Углича я. Мужик тамо осталси. Поди, уж и оженилси вновь! Попрошусь, на двор бы хошь пустили… А сама-то переславська, из Княжева-села, Михалкиных… поди-ка, и не знашь, тамотка не бывал… Проськой зовут, Опросиньей. Мать тамо у меня… Тоже, поди-ка, померла! И братовья. Двои. Може, и они невестимо где! Двадцать летов прошло…
– Да, – помолчав, отозвался Скворец, невольно подивясь и пожаливши, даже с некоторым страхом, этой чужой судьбе, – двадцать летов!
Хозяин на корме сказывал меж тем:
– Сперва-то грабить почали, кого и порезали той поры. Ну, а тут новы татары подбежали, от князя Айдара, бают. Ну, не трожь, мол, не замай товар! Ругань у их пошла, сторожу наставили. А только я-то мыслю, ето не последня замятня! Пущай осильнеет, кто у их тута – Узбек ли, Ильбасмыш, – там и воротить мочно. Товар – дело наживное, а шкуру потеряшь – новой не наростишь ужо!
Уже в Нижнем нагнала их корабль весть, что ханом в Сарае стал мусульманин Узбек и что всех мунгалов, не принявших бесерменской веры, режут. Так, по крайности, уверяли слухачи.
Вестники преувеличивали, конечно, но были недалеки от истины. Накануне того дня, когда Кузя Скворец чудом ушел от резни на торгу, в Сарае едва не погиб стройный юноша с замечательно красивым лицом, пламенный поклонник пророка Мухаммеда, убежденный последователь «бесерменской веры», монгольский царевич, сын Тагрула, племянник Токтая (или Тохты), внук Менгу-Тимура, праправнук Бату, потомок, в шестом колене, великого Темучжина – Узбек.
Весть о смерти Тохты застала монгольских нойонов врасплох. Узбек, имевший все права на ханский престол, как старший племянник Тохты, раздражал многих, и, прежде всего, старую монгольскую знать. Настойчивое желание Узбека утвердить в Орде мусульманство как обязательную государственную религию делало его ненавистным для тех, кто помнил заветы Темучжина и с презрением победителей относился к верованиям покоренных ими племен. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон (тура) и устав (ясак) Чингиз-хана и перейдем в веру арабов?» – эти слова не измышлены писателем, а сохранены нам историком, современником событий, рассказывающим далее, что «Узбек настаивал на своем» и что монгольские эмиры, «вследствие этого чувствуя к нему вражду и отвращение», устроили пирушку, «чтобы во время попойки покончить с ним». И как Култук-Тимур сообщил по секрету Узбеку о замысле эмиров и «сделал ему знак глазом», после чего Узбек «немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско, одержал верх». Сына Токтая, Ильбасмыша, со ста двадцатью царевичами из рода Чингиз-хана он убил, а тому эмиру, который предупредил его, «оказал полное внимание и заботливость». Это, кстати, было, кажется, первое открытое поощрение доносительства у монголов. Называют, впрочем, и более скромную цифру убитых потомков Чингиз-хана, в семьдесят человек, не указывая, разумеется, какое погибло при этом количество тысячников, сотников и рядовых монголов, не захотевших изменить древнему девятибунчужному знамени и своим вождям – чингизидам.
Гражданская война в Орде продолжалась три года и закончилась лишь в 1315 году, с полным истреблением всех тех, кто не сбежал на Русь или не переметнулся к победителю, отринув веру прадедов и отказавшись от древнего достоинства степных батыров. В междоусобных бранях народов часто гибнут лучшие, самые убежденные, те, для кого честь и заветы старины отнюдь не «звук пустой», а значат больше собственной жизни, и выживают предатели, перебежчики, ренегаты, способные стать под любое знамя, лишь бы сохранить себя да еще и нажиться на чужой беде. Не бросим же камня ни в кого из тех, кто погиб, даже став противу неодолимого хода времени, ради чести своей и высоких, пусть даже и устарелых, заветов прошлого, кто «прадедней славы не развеял».
Русская летопись сохранила нам об этом смутном и страшном перевороте в Сарае лишь одну фразу: «В Орде сел Озбяк на царство и обесерменился». На самом деле это была подлинная гражданская война, переворот, унесший в небытие монгольскую державу на Волге и, вместе с нею, окончательно похоронивший идею союза Руси с Ордой. С тех пор слово «татарин», оттеснив забытое «моал» (монгол), стало обозначать на Руси смертельного врага-насильника, и, прежде всего, врага веры христианской – бесерменина, врага, спор с которым мог быть разрешен уже только силой оружия.
Скупые сообщения восточных хронистов рождают десятки вопросов, на которые трудно ответить писателю наших дней. Не ясно, сразу ли или спустя какое-то время возникла у монгольских эмиров эта мысль: заманить на пир и убить Узбека. Скорее всего, однако, сразу. Узбеку именно не должны были дать сесть на ханское место, ибо после того все становилось сложнее. Нелегко представить сейчас и эту степную пирушку: чаши с вином и кумысом, огненный плов, обугленную конину и куски горячей баранины, жирные пальцы и нехорошо светящиеся, готовые жестоко сузиться глаза, тяжелое дыхание сильных и уже полупьяных людей… Где и как шепнул Узбеку предатель, Култук-Тимур, злую весть? Тогда ли, когда Узбек спешивался, или, улучив минуту, уже в самом шатре, во время рокового пира? И почему Узбек приехал, хотя и званый? Мог он догадаться (а не он, так его друзья, бесермены, конечно, могли!) о готовящемся на него покушении? Или еще так прочны были навычаи степного братства, что изменить им, не приехать на пир к «своим» не мог даже и Узбек, даже и подозревающий о покушении? Как они сидели? Верно – развалясь на кошмах. Кто охранял шатер? Ведь была же охрана! И она, эта охрана, знала или не знала о том, что должно произойти? И как прибыл Узбек, один или со своими нукерами? И где были они во время пира? Почему не сразу ускакал предупрежденный Узбек, а ожидал условленного знака? И что он чувствовал, когда ел и пил, ожидая, что вот-вот холодное острое железо вонзится в его горло? А когда Узбек вышел, и, вскочив на коня, ускакал, пытались ли его ловить, догнать, рубились ли насмерть его нукеры, спасая господина, или никто не гнался за ним, и пирующие эмиры надеялись, что Узбек уехал, не догадав об их намерениях?