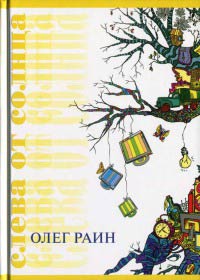Книга Альпийский синдром - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Любка потухла, завела глаза и стала загибать пальцы, прикидывая, как будет наведываться в сарай поздней осенью, в непогоду, или зимой, в снег и мороз. Но едва Игорек взялся разливать по второй, встряхнулась, фальшиво и тонко затянула:
– Наливай, наливай, кума…
– По полной, по полной… – перекрывая Любкин фальцет поповским басом, грянул из своего угла Саранчук и протянул Игорьку две стопки, свою и Оболенской. – Поднимем, поднимем… – Загромыхал стулом, вознесся над столом во весь богатырский рост, потянулся стопкой к имениннице. – Ну, Надежда, желаю тебе хорошего мужика! – Чокнулся, выпил, сграбастал Гузь ручищами, да так, что та пискнула, прижал к груди, впился в губы.
– Ах молодые, неженатые! – крикнула Любка. – Сладко!
Самогон оказался крепким, со стойким дрожжевым запахом, скользнул в гортани как по маслу, приятным теплом разлился по пищеводу. Пора было закусить, и здоровое движение за столом оживилось. Моя тарелка оказалась полной, а Надежда Григорьевна все подкладывала – то кусок запеченного в духовке карпа, то ложку овощного салата, то какую-то, с одуряюще-сладким запахом, печенку под луком. Мелькали длинные, как жерди, руки Саранчука, тащили через стол тарелки и блюда, выгребали еду в тарелку Оболенской, у которой уже подплыли зеленой тушью глаза, стали какими-то жутковатыми, русалочьими. С противоположной стороны, где сидел Ильенко, давно тянуло дымком, и текучая сигаретная хмарь придавала действу недостоверность, в которой проявлялись и исчезали то золотисто-бронзовый Любкин оскал, то бобровый профиль Игорька, то шафранная скула Надежды Григорьевны, ее быстрый, немного косящий взгляд и капроновое колено в разрезе платья.
Выпили по третьей. Здравицу провозгласил Мирон Миронович, точно молодой Синатра при исполнении песенки «Sway» – с сигаретой в одной руке, стопкой в другой. Мужчины встали, потому как за женщин, женщины загадочно улыбнулись – вероятно, каждая светло и хорошо подумала о себе. И выпивая, я на мгновение позабыл о Даше – а все из-за колена Надежды Григорьевны, ненароком прижавшегося к моей ноге, да еще из-за зеленовато-бутылочного потустороннего взгляда Оболенской, неотрывно впившегося в меня через стол.
«Кажется, немного пьян, – сказал я себе, недоумевая. – Какое, к черту, колено? Какая Оболенская? Мерещится незнамо что. А все самогон, будь он неладен! Завтра же погоню Любку с ее штофом: больше никаких примочек в рабочее время».
После третьей и первого насыщения пошли беспорядочные разговоры. Саранчук бубнил Оболенской на ухо, Гузь делилась секретом приготовления печенки с Любкой, и та, захмелев и путаясь, переспрашивала: «В соде? Точно в соде вымачивала?» Ильенко с Игорьком дымили в углу, щурились на дым, хвалили Любкин самогон: «Сначала запах… Черт с ним, с запахом!.. Потом в животе расслабление, внутри эдак обволакивает… Это тебе не казенка!..»
Внезапно мне стало душно, неуютно, захотелось на воздух, в прохладу зачинавшегося в просвете между штор вечера. Выйдя через черный ход во двор, я стал на крыльце, вдохнул полной грудью, вслушался, вгляделся. Здесь было тихо и отрешенно, как в другом, параллельном мире. Немо шелестел в яблоневых и вишневых кронах мягкий ветер, наливался и густел золотисто-розовой пеленой закат, вынырнул и завис в просветах деревьев прозрачный зачаточный лепесток луны.
Нет, не все ушло, что обычно уходит с возрастом, – подумал я, глядя вокруг со странным чувством припоминания чего-то давнего, оставленного в миновавшей молодости. Так ощущают окружающий мир едва оперившиеся юнцы, полные надежд и ожиданий грядущего, непременно счастливого и насыщенного светом и радостью. Затем это ощущение постепенно проходит, тускнеет, сменяется привычкой, а там и покорностью обреченного жить в неведении и вековой печали сущего. Но случаются все-таки мгновения, когда то, полузабытое, ощущение возвращается – ненадолго, как воспоминание о чем-то несбыточном, прекрасном: о детстве, тайне, обретении какого-нибудь замечательного ножика или рогатки, первой влюбленности, прикосновении, поцелуе… Но зачем возвращается, почему? А черт его знает! Главное, вечер опять тих и загадочен, луна таинственна и маняща, закат… и закат, закат!.. И в груди снова пробуждается предощущение чего-то, что вот-вот настанет…
Почему сейчас, не к месту и не вовремя? Кто знает! Банальность «пути Господни неисповедимы» как нельзя кстати пришлась здесь, на крыльце, в минуты одиночества на миру, где только вишни-яблони, ветерок в кронах и холодный жар разгорающегося заката.
«Вот я уйду – что от меня останется? – вздохнул я. – Горстка праха в земле, горстка неузнанного и никому не нужного праха. И после меня ничего не останется, как не осталось ничего после исчезнувших цивилизаций. Тогда зачем все: жизнь, труд, волнения, тревоги, если конец один, конец настолько бессмысленный и жестокий, что помнить о нем желания и сил недостанет. Как уверовать, что будет что-то потом? И если будет потом, то для чего это сейчас? И что такое бессмертие, если ты, именно ты, а не иной некто, в ином обличье, с иными помыслами и чувствами, явится через время? И явится ли вообще? И восстанут ли мертвые из праха? И почему судить их надо потом, а не сразу, едва согрешили, чтобы не растягивать, не множить грех во времени, во всю жизнь? Вопросы без ответов, как жизнь и смерть. И это угнетает больше всего – безответность, словно мы муравьи в стеклянной банке: не слышим, не видим, не разумеем».
Но нежный сосущий ужас от этих мыслей заставил отыграть обратно: а вдруг все-таки что-то там?.. и душа вечна… и Бог есть, а смерти нет… нет смерти… смерти нет…
Тут в пяти шагах от меня, за запертыми воротами, послышались голоса, и я невольно прислушался.
– Зачем пришла? Еще и с коляской, – пенял кому-то, невидимому из моего укрытия, Игорек. – И так подкалывают – Миронович, Любка.
– Захотела и пришла, – отвечал женский голос. – Кому какое дело?
– Мне-то все равно. А если Любка разболтает?.. Язык как помело! Она тебе кто, тетка?
– Любка? Троюродная или еще какая… Пусть только попробует! Я про нее такое знаю… – Осиные нотки в голосе потеплели, он стал мягче и на тон ниже. – Может, останешься сегодня? Сегодня еще можно, а там неделю не подходи…
Игорек что-то шепнул, раздался торопливый чмокающий звук поцелуя и сожалеющий вздох, ускользнули шаги, скрипнула отворяемая дверь.
«Страдания юного Вертера! – усмехнулся я. – С одной стороны, какие-никакие, а все-таки чувства, с другой – как вспомню о Нине… Если бы такое удумал я – и как после смотреть в Дашенькины глаза? Вот же блудливый кот!.. И что за мамзель у него такая? С чужим ребенком, под окнами, сегодня еще можно…»
– Евгений Николаевич, вы где? – позвал из глубины коридора низкий глуховатый голос секретарши. – Идите к нам!
Но я помедлил минуту-другую, – тогда за спиной осторожно цокнули каблучки, и каким-то шестым чувством, затылком и лопатками, я почуял, что явилась Гузь: стала позади и за каким-то дьяволом не уходит.
– Идите, Надежда Григорьевна, я сейчас, – сказал я, не оборачиваясь.
Но тишина за спиной только сгустилась, обрела тепло и дыхание. Тогда я повернулся – вытянув тонкую шею, Гузь смотрела туда, куда за секунду до этого смотрел и я. Там, в просвете между яблоневыми кронами, курчавилось розовое и нежное, словно пенка в детской ванночке, облако – снизу плоское, сверху в воздушных мыльных кудряшках. В другом просвете проявлялась и все яснее очерчивалась по контуру все еще бледная немощная луна.