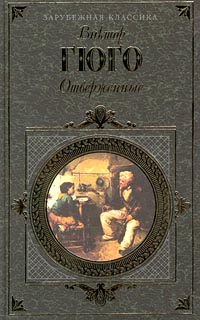Книга Человек, который смеется - Виктор Гюго
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Урсус был для Гуинплена и Деи почти что и отцом и матерью. Ворча себе под нос, он вырастил их; поругивая, вскормил их. Так как после усыновления двух детей возок стал тяжелее, Урсусу пришлось чаще впрягаться рядом с Гомо.
Следует заметить однако, что через несколько лет, когда Гуинплен стал почти взрослым, а Урсус — совсем старым, наступила очередь Гуинплена возить Урсуса.
Наблюдая за подрастающим Гуинпленом, Урсус предрек уроду его будущее.
— О твоем богатстве позаботились, — сказал он ему.
Семья, состоявшая из старика, двух детей и волка, странствуя, сплачивалась все тесней и тесней.
Такая бродячая жизнь не помешала воспитанию детей. "Скитаться — это расти", — говорил обыкновенно Урсус. Так как Гуинплен был явно предназначен для того, чтобы его "показывали на ярмарках", Урсус сделал из него хорошего фигляра, вкладывая при этом в своего ученика все те премудрости, которые только тот смог воспринять. Иногда, глядя в упор на чудовищную маску Гуинплена, он бормотал: "Да, начато было совсем неплохо". И он стремился завершить начатое, дополняя воспитание Гуинплена разнообразными философскими и научными познаниями.
Нередко повторял он Гуинплену:
— Будь философом. Быть мудрым — значит быть неуязвимым. Взгляни на меня, я никогда не плакал. А все потому, что я мудрец. Неужели ты думаешь, что если бы я захотел, у меня не нашлось бы повода поплакать?
В монологах, которым внимал только волк, Урсус говорил:
— Гуинплена я научил всему, в том числе и латыни, Дею же — ничему, ибо музыка в счет не идет.
Он выучил их обоих петь. Сам он недурно играл на маленькой старинной флейте, а также на рылях, которые хроника Бертрана Дюгесклена называет "инструментом нищих" и изобретение которых послужило толчком к развитию симфонической музыки. Эти концерты привлекали публику. Урсус показывал ей свои многострунные рыли и пояснял:
— По-латыни это называется organistrum.
Он обучил Дею и Гуинплена пению по методе Орфея и Эгидия Беншуа. Не раз прерывал он свои уроки восторженным возгласом:
— Орфей — певец Греции! Беншуа — певец Пикардии!
Эта сложная система тщательного воспитания все же не настолько поглощала досуг детей, чтобы помешать им любить друг друга. Они выросли, соединив свои сердца, подобно тому как два посаженные рядом деревца со временем соединяют свои ветви.
— Все равно, — бормотал Урсус, — я их поженю.
И брюзжал про себя:
— Надоели они мне со своей любовью.
Прошлого, даже того, о котором они могли помнить, не существовало ни для Гуинплена, ни для Деи. Они знали о нем только то, что им сообщил Урсус. Они звали Урсуса отцом.
У Гуинплена сохранилось лишь одно воспоминание раннего детства: нечто вроде вереницы демонов, пронесшихся над его колыбелью. У него осталось впечатление, будто чьи-то уродливые ноги топтали его в темноте. Было ли то нарочно или случайно, этого он не знал. Ясно до малейших подробностей помнил Гуинплен только трагические происшествия ночи, в которую его покинули на берегу моря. Но в ту ночь он нашел малютку Дею — находка, превратившая для него страшную ночь в лучезарный день.
Память у Деи была окутана еще более густым туманом, чем у Гуинплена, и в этом сумраке все исчезало. Она смутно помнила свою мать как что-то холодное. Видела ли она когда-нибудь солнце? Быть может. Она напрягала все усилия, чтобы оживить пустоту, оставшуюся позади ее. Солнце? Что это такое? Ей смутно припоминалось что-то яркое и теплое; его место занял теперь Гуинплен. Они говорили друг с другом шепотом. Нет никакого сомнения, что воркование — самое важное занятие на свете. Дея говорила Гуинплену:
— Свет — это твой голос.
Однажды Гуинплен, увидев сквозь кисейный рукав плечо Деи и не устояв, прикоснулся к нему губами. Безобразный рот и такой чистый поцелуй. Дея почувствовала величайшее блаженство. Ее щеки зарделись румянцем, Под поцелуем чудовища заря занялась на этом погруженном в вечную тьму прекрасном челе. А Гуинплен задохнулся от чего-то, похожего на ужас, и не мог удержаться, чтобы не взглянуть на райское видение — на белизну груди, приоткрытой распахнувшейся косынкой.
Дея подняла рукав и, протянув Гуинплену обнаженную выше локтя руку, сказала:
— Еще!
Гуинплен спасся тем, что обратился в бегство.
На следующий день игра возобновилась — правда, с некоторыми вариантами. Восхитительное погружение в сладостную бездну, именуемую любовью.
Это и есть те радости, на которые господь бог в качестве старого философа взирает с улыбкой.
Порою Гуинплен упрекал себя. Его счастье вызывало в нем нечто вроде угрызений совести. Ему казалось, что, позволяя любить себя этой девушке, которая не может его видеть, он обманывает ее. Что сказала бы она, если бы ее глаза внезапно прозрели? Какое отвращение почувствовала бы она к тому, что так ее привлекает! Как отпрянула бы она от своего страшного магнита! Как вскрикнула бы! Как закрыла бы лицо руками! Как стремительно убежала бы! Тягостные сомнения терзали его. Он говорил себе, что он, чудовище, не имеет права на любовь. Гидра, боготворимая светилом! Он считал долгом открыть истину этой слепой звезде.
Однажды он сказал Дее:
— Знаешь, я очень некрасив.
— Я знаю, что ты прекрасен, — ответила она.
Он продолжал:
— Когда ты слышишь, как все смеются, знай, что смеются надо мной, потому что я уродлив.
— Я люблю тебя, — сказала Дея.
И, помолчав, прибавила:
— Я умирала, ты вернул меня к жизни. Когда ты здесь, я ощущаю рядом с собою небо. Дай мне свою руку: я хочу коснуться бога!
Их руки, найдя одна другую, соединились. Оба не проронили больше ни слова; они молчали от полноты взаимной любви.
Урсус, нахмурившись, слушал этот разговор. На другое утро, когда они сошлись все трое, он сказал:
— Да ведь и Дея тоже некрасива.
Эта фраза не достигла своей цели. Дея и Гуинплен пропустили ее мимо ушей. Поглощенные друг другом, они редко вникали в сущность изречений Урсуса. Мудрость философа пропадала даром.
Однако в этот раз предостерегающее замечание Урсуса: "Дея тоже некрасива" изобличало в этом книжном человеке известное знание женщин. Несомненно, Гуинплен, сказав правду, допустил тем самым неосторожность. Сказать всякой другой женщине, всякой другой слепой, кроме Деи: "Я очень некрасив собою", — было опасно. Быть слепой и сверх того влюбленной — значит быть слепой вдвойне. В таком состоянии с особенной силой пробуждается мечтательность. Иллюзия — насущный хлеб мечты; отнять у любви иллюзию — все равно что лишить ее пищи. Для возникновения любви необходимо восхищение как душой, так и телом. Кроме того, никогда не следует говорить женщине ничего такого, что ей трудно понять. Она начинает над этим задумываться, и нередко мысли ее принимают дурной оборот. Загадка разрушает цельность мечты. Потрясение, вызванное неосторожно оброненным словом, влечет за собою глубокую трещину в том, что уже срослось. Иногда случается, неизвестно даже как, что под влиянием случайно брошенной фразы сердце незаметно для самого себя постепенно пустеет. Любящее существо замечает, что уровень его счастья понизился. Нет ничего страшнее этого медленного исчезновения счастья сквозь стенки треснувшего сосуда.