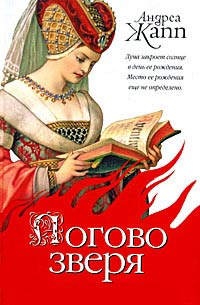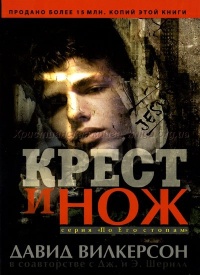Книга Сезон зверя - Владимир Федоров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Бывает, что в доме засаду устраивает, – пояснил он. И вошел вовнутрь, как бы желая окончательно убедиться, что там никого нет. Но как только дверь за ним со скрипом запахнулась, тут же присел, внимательно осмотрел пол и, увидев у самого порога все три почерневших обрубка собственных ногтей с запекшейся кровью, с облегчением схватил их и сунул в карман.
– Нет, не заходил сюда, – нарочно громко произнес он, выйдя из зимовья.
Завернув тело Афанасия в брезент и положив на мерзлоту под дерн, они укрылись в избушке и стали караулить людоеда. Но он, видимо, что-то почуяв, не пришел ни ночью, ни на следующий день. Приехавшие к вечеру на лошадях вместе с охотниками милиционер и врач из Куба-Келя и прилетевший на вертолете из Северомайска инженер по ТБ осмотрели тело и место происшествия, составили акт. Причина смерти никаких сомнений не вызывала.
Рано утром охотники с собаками пошли по следу хромого. Перебредя по перекату через речку и поднявшись на перевал, они спустились в соседнюю долину и… уперлись в ручей. На противоположной стороне следа не было – войдя в воду, медведь пошел прямо по ней. Куда он направился, вверх или вниз, где вышел на берег?.. Ответа на эти вопросы не мог дать никто. На всякий случай проверили обе стороны на приличное расстояние и по течению, и против, но собаки так и не взяли следа. Это могло произойти и потому, что мокрый медведь просто не оставил запаха на прибрежных камнях.
К вечеру охотники вернулись ни с чем. Просидев безрезультатно еще ночь в засаде, они повезли тело Афанасия в деревню.
Как бы там ни было, а работу отряда на этом никто прекращать не собирался, тем более после выхода на такое перспективное рудопроявление. Перед отлетом инженер ТБ лишь еще раз строго-настрого запретил любые одиночные маршруты и выход из лагеря без оружия.
После гибели Афанасия возникла проблема с лошадьми – кто-то должен был утром пригонять их в лагерь, а с середины дня возвращать на выпас. Начальник и геолог позволить себе такую потерю времени не могли. Тамерлан нужен был как основная сила на канавах, о студентке и речь не шла. Так что вариант оставался один – переселить в зимовье Карпыча с Валеркой и возложить на них эти обязанности. Так Белявский и распорядился.
В первые ночи студент и шурфовщик дежурили по очереди, однако зверь ничем не давал о себе знать, и скоро они стали спать как обычно, надеясь в крайнем случае на Найду и запор на двери.
По вечерам долго не могли заснуть и перебрасывались в темноте фразами, лежа на нарах у противоположных стен. Конечно, часто вспоминали и жалели Афанасия, о котором в избушке напоминал каждый гвоздь. Не могли обойтись и без разговоров о медведях, хотя, казалось бы, переваливший к концу и столь печально связанный с хромым медведем сезон должен был уже давно вытянуть из всех досуха эту больную тему. Но оказалось, что мрачная история Полковника про месть медведя лагерному оперу была в его памяти далеко не последней. Просто в силу легкости и, как ни странно, какой-то особой непоказной чуткости своей натуры, спрятанной то за бравадой, то за вызовом, Полковник не хотел «грузить» мрачными гнетущими картинками молодых ребят и не рассказывал им всего, что довелось повидать за пять лет лагерей. Тем более что хвалиться было нечем: большую часть срока он проколымил бригадиром в похоронной команде дорожного управления и рудника, которые находились за одним общим периметром лагерного ограждения. Нижние ворота этого периметра и выходили на кладбище. Покойников можно было уже не держать за колючкой – не убегут.
И вот теперь его то и дело стало прорывать на жутковатые воспоминания, наверное потому, что они уже не могли сделать атмосферу в избушке более гнетущей, чем она была.
В огромной зоне, по-хозяйски расчетливо охватившей всю долину речки Куобах, в общей сложности тогда горбатилось больше двух тысяч человек, и не было дня, чтоб бригаде Карпыча не поступала команда забрать из лазарета, рудничного двора или прямо жилого барака двух-трех «клиентов». Похоронники и сами-то выглядели ненамного лучше мертвецов, передвигались, как медленные тени. Тем не менее службу свою скорбную несли. Когда были доски, естественно необрезные, они кое-как сколачивали неказистые щелястые ящики и укладывали покойников туда. А когда досок не было, просто тащили мертвых на кладбище на санях-волокуше и рыли для них неглубокие ямы, по сантиметрам вгрызаясь кайлами и лопатами в каменистый грунт. Благо, их никто не торопил. Особенно трудно было с могилами зимой, когда почва от пятидесятиградусных морозов просто звенела, а заготовить дров на пожог на почти голых склонах соседних сопок было невозможно. Тогда ямы были особенно неглубоки, максимум сантиметров сорок, и если бы не наваленные сверху горки камней, покойники просто бы высовывались наружу. Конечно, весной все это начинало таять, запах снизу легко проникал сквозь камни, и над кладбищем стоял страшный смрад. Он-то и привлекал туда голодных весенних медведей со всей округи. Когда потерявшие страх звери приходили днем, по ним палили, развлекаясь, охранники с вышек. А ночью кладбище накрывала темнота и у медведей начиналось безнаказанное пиршество. Разрывая неглубокие могилы, они волокли покойников поближе к лесу и там по-хозяйски расправлялись с ними. Утром похоронная команда в сопровождении двух охранников, отгонявших обнаглевших зверей выстрелами, выходила за ворота, собирала то, что оставалось от трупов на свои волокуши, тянула назад на кладбище и зарывала в чуть более глубокие ямы. Ночью, как в каком-то кошмаре, все повторялось снова. Какой лютой злобой ненавидели они этих медведей, заставлявших делать двойную, а то и тройную, не только страшную, но и едва посильную работу! Лишь к середине лета, когда на южных склонах поспевала смородина-каменушка и появлялись грибы, а все мелкие зимние могилы были раскопаны и разворочены, медведи уходили куда-то в сопки. Чтобы весной возвратиться снова. У Карпыча, как и у всей его похоронной команды, составленной из доходяг, от которых уже не было толка на более тяжелых работах и которые сами пребывали на границе бытия и небытия, все чувства были настолько притуплены, что порой они почти не реагировали на разверзшийся вокруг медвежий ад. Но когда Карпыч вышел из зоны, страшные картины вместе с ним стали медленно наполняться силой, жизненными соками, и он настолько явственно и страшно видел в снах оскаленные звериные морды и слышал, как хрустят под их зубами некрепкие человеческие кости, что просто боялся ложиться спать. Казалось, кошмар никогда не кончится…
Вспоминая сейчас те годы, он рассказывал и рассказывал о них студенту несколько вечеров подряд, словно никак не мог выговориться, пока Валерка чуть не закричал на него:
– Хватит, Полковник, перестань!
– А ты на меня не ори! – возмутился он вместо того, чтобы замолчать. – Думаешь, если я бич, то и рот затыкать можно?! А я не всегда бичом был, я целым прииском управлял! Я на материк… в кожаном реглане… с портфелем денег! И после лагеря мозги не потерял!.. Да только душу-то они мне изуродовали, изурочили, эти твои медведи! Я из-за них и пить стал по-черному, а иначе просто на кровать лечь боялся! Из-за них и бичом стал, отбросом общества!..
– Извини, Карпыч, – тихо попросил в темноте Валерка, – но у меня и без твоих рассказов история с Афанасием из головы не выходит. Свой людоед спать не дает. – И он говорил правду: хромоногий убийца бродил по кругу в его мозгах день и ночь, зло и довольно скаля клыки. Особенно угнетало Валерку то, что людоед безнаказанно ушел после своего страшного преступления. А справедливость требовала отмщения. Валерка каким-то образом чувствовал, даже знал почти наверняка, что медведь рано или поздно все равно придет если не к избушке, куда он, возможно, побоится сунуться после такого количества побывавших здесь людей, то уж точно к останкам лошади, которые охотники волоком утащили в ближний лес и возле которых сидели в засаде.