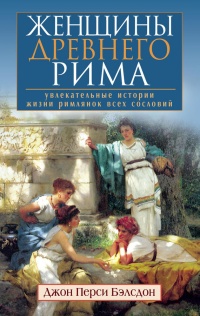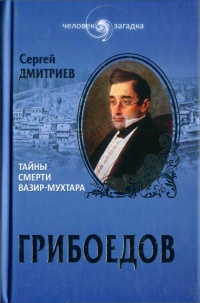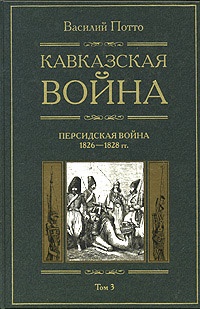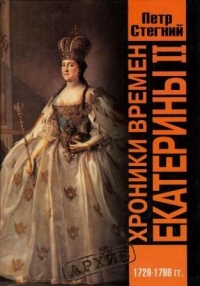Книга Мария Волконская - Михаил Филин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще бы: сейчас она торопится в Сибирь, но пройдет какое-то время, все рано или поздно образуется — и испытанная кибитка полетит обратно, с востока на запад, к дорогому Николино (или, что еще желаннее, за ним). Как-то он там, ее маленький князь?
6 января Мария добралась уже до Перми — и отсюда решила послать весточку княгине Вере Вяземской. Дело в том, что у Волконской внезапно появился удобный повод для письма в Москву. Записка (на всякий случай неподписанная) вышла короткой, уместилась на одном листе — но в ней были очень важные для посвященного строки:
«Дорогая княгиня. Вот я и в Перми без приключений, послезавтра в Екатеринбурге, а затем и в дорогой Сибири. Я не очень страдаю от холода; что же до буранов, то я видела только один. Это было чудной лунной ночью; я была очень рада видеть метель; это великолепное зрелище — подымающиеся ввысь огромные горы снега; я не боялась, что меня занесет, потому что уже виднелась почтовая станция.
Простите бессвязность моей записки. Я разбита от усталости. Я не чувствую этого совершенно, пока приближаюсь к цели, но на стоянках я в полном изнеможении, и хочется скорее вернуться в свою кибитку.
Я встретила Пущина, Коновницына и кого-то третьего около Оханска; они едут на Кавказ; передайте это тому, кто интересуется первым из них»[458].
Заключительный абзац письма — несомненно, главный для Марии — был адресован Пушкину.
Внешне все выглядело более чем благопристойно: она всего лишь сообщила старинному знакомому (и бывшему лицеисту) важное известие о его друге. Однако не надо забывать о высочайшем мастерстве намека, достигнутом эпистолярной культурой той эпохи. Данной фразой Мария Волконская, возможно, преследовала и другую цель: упомянув о Пущине[459], она тем самым косвенно возвращала Пушкина к их московскому разговору 29 декабря (в ходе которого поэт как раз и заговорил о Jeannot). В таком контексте нейтральные с виду слова Марии допустимо трактовать и как скрытое напоминание о свидании вообще и о ключевом моменте ее монолога:
Беглянка, отъехав от Москвы на тысячи верст, с безопасного расстояния решилась-таки через посредницу (которая, вероятно, о чем-то смутно догадывалась) обратиться к поэту со «строками приветными», прощальными.
Отправив это анонимное письмо по почте, Мария вновь поспешила в свою кибитку — и двинулась дальше.
Пушкинский «перстень верный» был при ней.
Вскоре дорога постепенно пошла в гору.
Спустя сутки княгиня очутилась уже за Уралом — в «дорогой Сибири».
Там ей суждено было прожить безвыездно более четверти века.
ЖЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА
Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, я подчиняюсь им с щепетильной аккуратностью.
Разве мог подумать постоянно чем-то увлеченный человек в засаленном парике, великий предок Марии, мечтавший в XVIII веке об освоении россиянами богатств суровой Сибири, что однажды наступит день — и туда, в «мрачный, ледяной ад», устремится не кто-нибудь, а его упрямая правнучка, которая на целую вечность заточит себя среди лесов, снегов и злодеев?
«Мы с трудом можем себе представить, что была Сибирь того времени, — писал в начале минувшего столетия внук Марии Николаевны, князь С. М. Волконский. — Не только Сибирь недавнего прошлого, с железной дорогой, с флотом на дальневосточных водах, с университетом и т. д., но даже Сибирь пятидесятых годов, Сибирь Муравьева-Амурского, с присоединенным Амуром и выходом на Тихий океан, — представляется каким-то иным миром по сравнению с Сибирью двадцатых годов. Как выразился впоследствии канцлер граф Нессельроде, — „дно мешка“; это был конец света, выход оттуда был один — по той же дороге назад. Куда, собственно, ехала княгиня, на что себя обрекала, этого не знал никто, меньше всех она сама»[460].
В ночь на 21 января 1827 года, «сделав весь путь в три недели, только с двумя ночевками, и то невольными»[461], Мария Волконская прибыла в столицу восточно-сибирского края — Иркутск. Она двигалась в своей кибитке по зимним просторам столь быстро, что почти догнала Е. И. Трубецкую (выехавшую к мужу значительно раньше Марии и оказавшуюся в Иркутске еще в конце сентября) и на восемь суток опередила А. Г. Муравьеву (которая оставила Москву через четыре дня после княгини).
«Приехав в Иркутск, главный город Восточной Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописною, реку великолепною, хотя она и была покрыта льдом, — вспоминала наша героиня. — Я пошла прежде всего в первую церковь, которая мне встретилась, чтобы отслужить благодарственный молебен…»[462]
Княгиня расположилась в квартире, которую в предыдущие месяцы занимала Е. И. Трубецкая («Каташа»), только что, 20-го числа, отправившаяся из Иркутска в Забайкалье. Не успела Мария Николаевна как следует отдохнуть с дороги, как к ней пожаловал с визитом И. Б. Цейдлер, «старый немец», иркутский гражданский губернатор (и заодно большой энтузиаст насаждения в Сибири овцеводства). Он, по распоряжению из Петербурга, собирался «наставлять» княгиню и «уговорить возвратиться в Россию».
Цейдлер уже имел некоторый опыт обращения с женами государственных преступников. Несколько раньше он употребил все доступные ему средства, чтобы воспрепятствовать дальнейшему путешествию княгини Трубецкой (и задержал-таки ее в городе на четыре месяца). Декабрист А. Е. Розен (видимо, со слов самой Екатерины Ивановны) подробно описал тактику иркутского начальника: «Губернатор представил ей сперва затруднения жизни в таком месте, где находится до 5000 каторжных, где ей придется жить в общих казармах с ними, без прислуги, без малейших удобств. Она этим не устрашилась и объявила свою готовность покориться всем лишениям, лишь бы ей быть вместе с мужем. На следующий день те же препятствия со стороны губернатора, который объявил, что имеет приказание взять от нее письменное свидетельство, по коему она добровольно отказывается от всех прав на преимущества дворянства и вместе с тем от всякого имущества — недвижимого и движимого, коим уже владеет и какое могло бы достаться ей в наследство. Ек И Трубецкая без малейшего возражения подписала эту бумагу, в уверенности, что с этим отречением открыла себе путь к мужу. Не тут-то было: несколько дней сряду губернатор не принимал ее, отговариваясь болезнью. Наконец он решился употребить последнее средство; уговаривал, упрашивал и, увидев все доводы и убеждения отринутыми, объявил, что не может иначе отправить ее к мужу, как пешком с партией ссыльных по канату и по этапам. Она спокойно согласилась на это; тогда губернатор заплакал и сказал: „Вы поедете!“»[463]