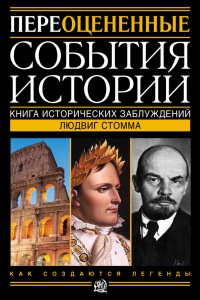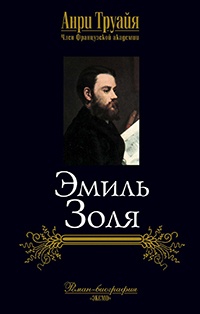Книга Эмиль Гилельс. За гранью мифа - Григорий Гордон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дорогой Александр Борисович! Прости мне мое недавнее поведение. Лет 16–17 назад во мне что-то свихнулось — неизлечимая болезнь (полиневрит рук — примечание Д. Башкирова. — Г. Г.), личные невзгоды, смерть сына. Да, я люблю жизнь, но не себя в ней… у меня бывает, стремление быть противным для людей, но я никогда не делал людям специально гадостей, хотя имел возможность возмущать их, как и Тебя… Может быть, Ты почувствуешь, что я заслуживаю скорее Твоего сострадания, чем гнева…
Ответ А. Б. Гольденвейзера:
Дорогой Генрих Густавович! Твое письмо глубоко, до слез взволновало меня. Спасибо Тебе за нравственное доверие, без которого Ты не написал бы мне так. Я Тебя люблю и высоко ценю Твой прекрасный талант и исключительную культуру. Я всегда стараюсь людей не осуждать, а за Тебя я всегда страдаю и глубоко Тебя жалею… Обнимаю Тебя как друга и от души желаю Тебе освободиться от тяжелого гнета, который отравляет физически и морально твою жизнь.
Сходного содержания письмо Нейгауз отправил и Гилельсу. Гилельс ответил (приводимых Н. Дорлиак слов в письме нет). Он писал, что просит Нейгауза, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не называл его своим учеником.
Жестко? — да. Гольденвейзер простил. Гилельс — нет. Вот он и хлопнул дверью. Таков был его характер, и нужно принимать его таким, каким он был. Нейгауз страдал, но и Гилельсу этот шаг дался ценой тяжких переживаний. Что тут значат слова…
Обращаю внимание на любопытный момент: при переиздании воспоминаний о Нейгаузе весь приведенный мною фрагмент воспоминаний Н. Дорлиак (со слов «Потом Гилельс его страшно обидел» — и до конца) — изъят. Так что новое поколение читателей этой книги ни о чем знать не будет.
Теперь необходимо восстановить в памяти события тех лет — рубежа 50–60-х годов — события, выражаясь по-современному, знаковые, последствия которых чувствуются до сей поры; они развивались стремительно и с захватывающей интригой. Будем внимательны.
Важно отметить: свою книгу Нейгауз писал, всеми силами пытаясь покончить с несправедливостью, — в те годы Рихтера не выпускали за границу, что было, конечно, вопиющим безобразием, ни с чем не сообразным; этим и объясняются многие ее, книги, перехлесты. Что же касается тона, взятого Нейгаузом по отношению к Гилельсу, то объяснение этому отчасти лежит в той же плоскости: что ж, мол, о нем распространяться, сами знаете: он повсюду знаменит, «всем известно»… ну и дальше в том же духе. Сколько еще могло бы продолжаться «заточение» Рихтера? Но нежданно-негаданно пружина начинает раскручиваться: случилось так — для читателя это не новость, — что в год издания книги Нейгауза на Первом Международном конкурсе в СССР побеждает американец. С точки зрения властей — это позорное поражение нашей страны на культурном фронте: уступить Америке перед лицом всего мира! Недопустимо, поправить дело немедленно! Вот здесь-то, в противовес Клиберну, и потребовался — с железной необходимостью — наш пианист, да не какой-нибудь, а настоящая величина. На кого пал выбор, догадаться ничего не стоит. Да, вы не ошиблись. Но почему же Рихтер, а не Гилельс?! Ответ однозначен по очевидной и простой причине: Гилельс давным-давно признан целым светом; он, конечно, по-прежнему с неизменным триумфом продолжает приносить «дивиденды» своей стране. Но именно в силу этого, единственное, чего он не мог уже дать, так это впечатления новизны, открытия, — того, что и было самым главным: заставить мир вновь вздрогнуть от неожиданности…
Вы что думаете — у нас только один Гилельс?! Ошибаетесь, господа! И была развернута в периодических изданиях настоящая пропагандистская кампания, равной которой трудно припомнить. Нейгауз сообщал в письме: «…Раздался малиновый звон в печати…» Отзвуки этого звона слышны до сих пор. Посмотрим, как выглядит этот фрагмент нейгаузовского письма почти полностью: «…Рихтера после его триумфального турне по Финляндии начальство решило отправить в Америку и другие запстраны…
По сему случаю раздался малиновый звон в печати, и мне пришлось написать 3 статьи (плюс один довольно бездарный разговорчик в „Известиях“, не я писал, а корреспондент). Тут моим и Славиным друзьям нравится моя статья в „Сов[етской] культуре“ от 11 июня… Я даже получил много приятных телеграмм и писем. Ну, вот я и хвастанул».
Разумеется, дело не в Финляндии. Организованная, выражаясь по-современному, рекламная акция набирала силу — и Нейгауз с радостью и совершенно искренне принял в ней участие. Все совпало с его собственными убеждениями. А. Ингер констатировал: «В конце 40-х годов, а также в 50-е и 60-е Г. Нейгауз опубликовал ряд статей в газетах и журналах, в которых культ С. Рихтера достиг апогея… Восторги автора этих статей… принимали подчас достаточно необузданный характер».
Примеры хорошо известны — воздержусь от их демонстрации. Начала выстраиваться советская иерархическая пирамида, наверху которой — Рихтер.
Благоволение «верхов» к Рихтеру началось давно. Вспоминая конкурс 1945 года, Рихтер поведал Монсенжону: «Позднее председатель жюри Шостакович рассказывал мне, как ему звонил Молотов. „Вы боитесь дать первую премию Рихтеру? Принято решение дать вам на это разрешение, ничего не бойтесь“».
Была и такая история, невозможная ни с кем другим. В «Правде» — «главной» газете — была напечатана, разумеется, хвалебная, рецензия на концерт Рихтера, причем, на следующий же день, вернее, утро после концерта (тогда как по тем временам приходилось ждать хоть какого-нибудь отзыва месяцами — если он вообще появлялся, — да и то в специальном музыкальном журнале). Оперативность неслыханная! Так вот, рецензия-то появилась, а самого концерта не было — Рихтер его отменил! Впечатляет?!
По советским порядкам надежным мерилом деятельности человека любой профессии были звания и награды; стрелка барометра всегда показывала «ясно» и ее направление говорило на красноречивом языке. И вот происходит то, что должно было произойти: Рихтер первый, раньше Гилельса, стал получать знаки государственной благосклонности: в 1961 году он стал лауреатом Ленинской премии; Гилельс вслед за ним — в 1962 году. В 1975 году Рихтер — Герой социалистического труда; Гилельс — на следующий год, в 1976-м. Это ли не показатель: в верхах произошла, так сказать, переориентация в культурной политике с Гилельса на Рихтера. По советской шкале ценностей Гилельс стал официально вторым. Поразительно: никто ничего не заметил, настоящих музыкантов, таких далеких от злобы дня, ничто не смутило. И на Рихтере все происходящее никак не «отразилось»: никто и никогда не бросил ему упрека в том, что он стал любимцем властей, — хотя сигнал был недвусмысленным; Гилельса же продолжали этим донимать — и не без успеха, — как бы умаляя тем самым его чисто музыкальные заслуги. Он до сих пор обвиняется в «советскости», в то время как Рихтер — «вне подозрений».
Картина мне представляется совсем иной.