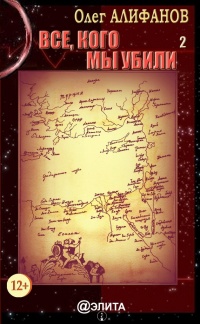Книга Все, кого мы убили. Книга 1 - Олег Алифанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не скрою, долго размышлял я, стоит ли писать ему о том, что предостережения его в нашу первую встречу сбылись худшим образом и продолжают преследовать меня. И написал бы, если бы не образ Анны, затмивший и по справедливости уравновесивший все невзгоды.
Итак, что мне предстояло выяснить, я записал на листе бумаги. Поколдовав с час, я свёл всё к наименьшему из минимумов – уяснить, какими нитями, помимо уже известных мне, связаны между собой все вместе и по парам: подручный Голуа (имя которого ещё предстояло вспомнить), Артамонов и, на всякий случай, Прохор. А также зачем каждому из них я так необходим. Тайное общество – основание веское, чтобы опасаться сыщиков, каким в их мнении мог оказаться я, но то в России. А с какой целью они продолжают преследовать меня до края света?
С четверть часа я сидел, не шелохнувшись, пока в зеркале не обнаружил угрюмое растрёпанное существо с перекошенным от умствований лицом. Расхохотавшись, я скомкал лист и швырнул его в угол, получалось: чтобы всё знать, мне следовало прежде узнать всё.
Посему я оставил бесполезные и утомительные дознавательства до иных времён. Всё выглядело превосходно, а сугубо наружно отношения, кажется, не могли быть лучше. Мы вполне сдружились с Владимиром, оставляя, впрочем, много места для независимости. Признаться, меня радовало присутствие рядом умного и оригинального человека, отличающегося от меня не только суждениями, но и самим поведением, а его темперамент и свободное безрассудство, противопоставленные пестуемой мною скрупулёзной расчётливости, перевесили некоторые оставшиеся недоговорённости. С другой стороны, при внешней пылкости и острословии он умел сдерживать себя, мой же характер отличал меня неумением сглаживать резкости, и мысленное кипение могло в мгновение обернуться взрывом.
Потянулась радужная череда счастливых дней и недель. Я упорно трудился, собирая самые ценные рукописи, вскоре в мечтах своих я уже видел Кёлера, освобождавшего для меня кафедру, сонм учеников, глядящих мне в рот, и выезды ко двору с первой красавицей Петербурга.
Начальный мой опыт, впрочем, выглядел комично, что, вероятно, свойственно всем восторженным зачинателям. Раз, недели две спустя, когда я в конторе проверял счета, заявился ко мне один турок, приволокший на верблюде немалую поклажу, которая оказалась чудесной мраморной статуей нимфы в человеческий рост. Прекрасной сохранности, лишь немного повреждённая трещинами и сколами, разбередила она моё любопытство так, что я начал подумывать, не фальшивка ли это. Турок, стареющий уже, но статный человек, одетый в дореформенное платье и редкую тогда уже чалму, никак не желал назначать цену, но ждал моего предложения. Я прежде расспросил его, откуда у него сие произведение. Он поначалу отнекивался, но после путано объяснял что-то про Антиливанские горы, из чего я сделал вывод, что он не желает выдавать место находки или кражи. Пристальное исследование убедило меня в подлинности этого римского чуда, и я назвал желаемую сумму. Он с сомнением спросил, насколько стар этот предмет, услышав, что древность его не подлежит сомнению, молча принялся грузить обратно свой товар. Я поднял цену вдвое, потом ещё раз – восемьсот рублей серебром для простого жителя здесь составили бы целый капитал, и тогда случилось невообразимое. Откуда-то извлёкши молот, он вдруг яростным ударом расколол туловище статуи надвое, и брызги осколков едва не иссекли мне лицо. Удар за ударом наносил этот полоумный под мои призывы остановиться, пока нимфа не превратилась в груду острых обломков. Я полагал, что это, наконец, удовлетворит его слепую ярость иконоборца, но он стоял вконец раздосадованный, весь вид его выражал крайнюю степень недоумения. Ещё надеялся я спасти хотя бы голову, откатившуюся в сторону, но одержимец, тщательно проведя ревизию обломков, заподозрил неладное, и вскоре покончил и с той частью статуи, заменив мне славу добытчика анекдотом.
Вечером того же дня Шассо, хохоча, объяснял мне, что никакого отношения к заповеди о кумирах речи нет и в помине. На Востоке сильно вполне языческое поверие, что все древние могилы, саркофаги и предметы таят в себе сокровища – и тем вероятнее, чем солиднее их возраст. В славной вазе Пергама нашёлся клад золотых и серебряных монет. Находка сия, вместо того чтобы своей редкостью показать ошибочность суеверия лишь подогрела старинный слух. Само старание милордов (титул всех европейцев без разбору) платить состояния за бесполезные для крестьянина или горца предметы только больше возбуждает в них алчность, зачастую имеющую выход в вандализме. Тимон Афинский утверждал, что среди развалин ожидает сам Плутон с воздаянием за труды копателя. Без тени иронии ответил я, что воздаяние – очень точное слово, ибо описывает как награду, так и проклятие.
Свободное время посвящал я живописи, без труда уговорив Артамонова давать мне уроки итальянского карандаша. Я же посвятил его в древние эпиграфы, кои он научился классифицировать довольно споро, имея врождённые способности к языкам и известную долю иронического цинизма, необходимого любому историку. Всё это ещё более сблизило нас, ведь в каждом творце живёт снисходительный учитель. Изучение прошлого этого многоликого края стало вторым моим развлечением, и вскоре к неудовольствию своему понял я, что, читая Страбона, Полибия и Флавия, нахожу в них более верные сведения, нежели в современных творениях. В археологическом же отношении и вовсе не отыскал я работ, сколь-нибудь более подробных, нежели пробежка по достопримечательностям в промежуток двух кораблей. Но недостатки эти грозили обернуться достоинствами, ибо давали мне возможность первым прославить имя своё на поприще сем.
Покушения на меня прекратились, что всего более приписал я своей предусмотрительности в отношении денег и некоторых чересчур приметных древностей. Но с течением времени Бейрут становился для меня менее и менее уютным, и слишком часто я ощущал на себе чьи-то пристальные взоры и слежку. Впрочем, мне могло просто казаться. Я старался не обращать на это внимания, но несколько раз просил Прохора следовать далеко позади и наблюдать, не проявляет ли кто ко мне излишнего интереса.
После Благовещения получил я короткое письмо от Муравьева. Оно насторожило меня тем, что так поспешно написал он свой ответ. Едва ли не в каждой строке усматривал я вольный или невольный его щелчок мне по носу. Казалось, затем только читал я это, чтобы почувствовать, каково же осознавать в мире сем свою ничтожность.
«Сфинксы мои, бесхозные и забытые французами по увлечению ими новой революцией, Рибопьер сторговал вторично за 64 тысячи рублей, имея соизволение заплатить деньги из положенной России контрибуции, и уже утверждено место на Университетской набережной напротив Академии Художеств. Сам Тон взялся за проект пристани – последнего и вечного, надеюсь, их пристанища, а Монферан пожелал меж них воздвигнуть гигантского Осириса…
Вижу, Алексей, что и тебя заняло наше маленькое дельце! Я о Дашкове, что молчаливостью соперничает со Сфинксом, а загадки задаёт почище последнего. Что ж, вот тебе новая пища для раздумий. Минуло три месяца, как твой покорный слуга добивается приёма у сего господина. Представь себе, уже и на высочайшей аудиенции побывал, а любезному товарищу министра всё недосуг. Хотя имею достоверные сведения, что рукопись мою он читал и некоторым образом одобрил. Махнул я, отправился к профессору Воробьёву. Тот не медлил и принял меня ласково, долго расшаркивался. Мы премило беседовали о Святой Земле, и я, признаюсь, стал жертвой чудесных его холстов, живо воскресивших в моей памяти время не столь ещё отдалённого паломничества. Писал он в тот вечер несвойственный себе сюжет о битве Персея с Медузой, но поспешил скрыть его занавеской, как несовершённый. Так что, возможно, скоро станем мы свидетелями новой грани его творчества. Видел его «Вечер у Абу-Гоша, арабского шейха» и заверил его, что могу поручиться за похожесть, так как побывал у разбойника и сам. Немало проговорили мы о Храме, и тут я, признаюсь, использовал твои сведения о скорых пожертвованиях, переданные патриарху. Казалось, уж совсем подкупил его своими похвалами (чуть не написал: похвальбами) и ничто не предвещало грозы; я уж рассчитывал разговорить мастера, но стоило мне поинтересоваться зарисовками сераля, как он неожиданно посуровел и поскорее выпроводил меня вон, сославшись на срочное дело в Академии. В прихожей, стремясь загладить неловкость, он прошептал, что его миссия остаётся непонятой им самим, и что он совсем не желает углубляться в подробности. Как я мог догадаться, само слово «сераль» есть для него нечто более запретное, нежели одноименный град для простого китайца. Он дал слово… тут не думай, друг Алексей, что он дал кому-то слово не распространяться о своих деяниях далее некоего невидимого предела – он обещал никому не сообщать о моих расспросах. Да, вот ещё, что я скажу, достоверно, что получил он пожизненную пенсию за выполнение того поручения».