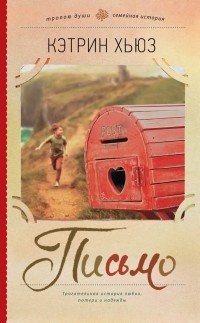Книга Теплые вещи - Михаил Нисенбаум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да, так вот, «Ойкос», значит... Хорошее место. И время хорошее. Не нужно надевать школьную форму, можно прийти в растянутом свитере или оставаться с намотанным вокруг шеи шарфом. Можно сидеть на подоконнике или на полу. А единственный настоящий взрослый, Мила Михайловна, не имеет над нами беспрекословной власти, более того, время от времени дает понять, что мы товарищи, делаем общее дело и в этом деле равны.
При этом каждый знает про себя, что он выше всех. Тем, что умнее, увереннее, точнее, тем, что лучше двигается, правильнее понимает режиссера или имеет больше сторонников. Каким-то чудом Мила Михайловна умудрялась хоть на мгновение внушить каждому из актеров сознание собственной значимости и превосходства.
К середине репетиции запах скипидара в комнате становился незаметен. Иногда зажигались свечи, дребезжали слабо прижатые струны гитары. При свечах лица у всех делались праздничными и таинственными, студия мерцала братской благодарностью и уютным родством.
Изредка к нам приходил Вялкин. Его приходы напоминали визиты главы могущественной державы или, по меньшей мере, крестной феи. Вялкин приносил эскизы костюмов, мастерски нарисованные гуашью, наброски декораций и фантазии на тему будущего спектакля. На рисунках сцена светилась зеленоватым мистическим холодом, в полумраке двигались фигурки в белых одеждах, напоминающих ночные рубахи с длинными рукавами. Мы зачарованно смотрели на картинки и представляли в фигурках уменьшенных себя.
Не прошло и месяца, как Санька из наблюдателя превратилась в актрису «Ойкоса». Теперь она приходила на репетиции в черной водолазке, спортивных брючках и чешках. Вместе с нами делала этюды, тараторила «Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в Константинополе», выхлопывала ладошами ритм «кукареллы».
Санька была самая высокая девушка в труппе и двигалась с той же угловатой грацией, с которой удерживает равновесие «Девочка на шаре». Казалось, равновесие это достигается не балансом притяжения, а незримыми колебаниями высоты.
В театре она дружила со всеми, я же, как обычно, держался особняком. Умница Санька не обращала на это никакого внимания. Эта единственно правильная линия поведения с загадочными буками была не обдуманной стратегией, а естественным проявлением ее открытости и добродушия.
Потом начались настоящие репетиции в зале. На сцене были натянуты шатры-горы из переплетенных серых веревок, рампа то вспыхивала таинственными огнями, то медленно гасла, по заднику гуляли пятна изумрудного, аквамаринового и янтарного огня. Из боковых колонок время от времени выскакивали, как веселые черти, пробные громы фонограммы.
По сцене бродили сквозняки, а мы двигались, как привидения, в своих холщовых балахонах и войлочных сандалиях на босу ногу. Раз в десять минут из глубин темного зала к нам бросалась, заламывая руки на бегу, Мила Михайловна, называя нас дуболомами. Она кричала:
– Чайка по имени Джонатан Ливингстон! Выйди на середину! НА СЕРЕДИНУ, а не на СРЕДИНУ! Андрей! Сколько можно повторять? Нет у нас в пьесе никакого Насреддина!
Много, много чего случилось за три месяца репетиций. Мы ссорились и мирились с Кохановской, Клепин с похмелья продал мне за двадцать пять рублей две картины Горнилова (как я добывал эти деньги – отдельная большая история) . Иногда я заходил к Вялкину, слушая его рассуждения об оргазме и исихазме. Выучив наизусть свою роль, я мог цитировать ее в любом разговоре, а иногда сочинял целые монологи в том же ключе. Отношения с Милой Михайловной становились все более дипломатическими, но делать было нечего: не менять же главного героя за месяц до премьеры.
В какой-то момент Мила Михайловна вообще перестала обращаться ко мне на репетициях. Оказавшись в излюбленной роли непризнанного бунтаря, я брал в ней энергию для роли чайки по имени Дж. Л. А может, роль Дж. Л. обострила во мне качества непризнанного бунтаря, кто теперь разберет.
Изредка после репетиций я провожал Саньку домой (когда был в ссоре с Кохановской, конечно). Зима махровая, улицы пусты, только пар из люков на перекрестке Машиностроителей и Карасева тянется к потрескивающим звездам. Ветки деревьев походят на розоватые рифы, в одноэтажных домах уютно теплятся обледеневшие окна. Окна в пятиэтажках по другую сторону улицы выглядят уныло.
Санька рассказывала про свою поездку к родственникам в Киргизию, про Иссык-Куль, про кроличий сарай, про университет и про то, как она начала писать стихи.
– Слушай, Сань... – как-то спросил я. – Ты себя не чувствуешь одинокой?
В те годы слово «одиночество» было синонимом избранности и автономности. Звучало не как жалобное «у меня никого нет» или «никому-то я не нужен», а как гордое «я такой один» или «мне не нужен никто».
– Я не одинокая, – Санька посмотрела на меня с удивлением, и я увидел, что ее длиннющие ресницы блестят инеем. – Вокруг меня только хорошие люди, самые лучшие.
– Хорошие, да... Но не все же тебя понимают?
– Ты ведь меня понимаешь? И потом... Не такая я сложная натура, как некоторые.
И она засмеялась. Хорошо так засмеялась и поглядела на меня игривыми глазами. Мы уже подошли к ее дому. Обычно в последнюю минуту перед расставанием что-нибудь происходит. Говорятся какие-нибудь особенные слова, лица сближаются, люди целуются... Но с Санькой этого быть не могло ни при каких обстоятельствах. Поэтому я сказал «ну пока» и поскакал домой, чувствуя, что один валенок тщится слететь с моей ноги и начать сольную карьеру.
Премьера – вот моя эмоциональная родина. Напряжение, которое раскаляет тебя до настоящей жизни, как лампочку, которая во все остальное время горела вполсилы. По телу гуляет дрожь, тело выбирает между болезнью и божеством, страх – просто турбулентность на огромной высоте. В этот день все были мне друзьями, я всех любил, даже старичка-пожарного Никишкина и красноносого рабочего сцены Мокеича, которые осуждающе косились на нас из-за кулис. Стая актеров-чаек казалась семьей, церковью, братством, мы строили действие, как наш общий дом, как храм... Сцена то погружалась во мрак, то вспыхивала загадочными цветами, музыка бежала по жилам, слова летели в лица зрителей. Важные, веские слова о вере, полете, преображении.
Вот если бы всегда жить так, как на премьере... Все впервые, но ты знаешь свою роль и что будет дальше...
После спектакля мы долго не переодевались, жали друг другу руки, смотрели сияющими глазами на людей в обычной одежде, которые заходили за кулисы и в гримерки. Сразу после закрытия занавеса я подошел к Ленке Кохановской, с которой мы накануне поссорились, и протянул мизинец. Она обняла меня, и посмотрела снизу вверх – сколько же нежности и радости было в этом взгляде. Я мог бы стоять так вечно, но тут к нам подошла Мила Михайловна, и мне пришлось разжать руки.
Когда долго на кого-нибудь сердишься, много и пристрастно думаешь, а потом вдруг миришься, радость гораздо больше и полнее, чем если бы у вас всегда были ровные хорошие отношения. Из этого можно сделать самые разные выводы. Я делаю такой: ради таких редких прекрасных вспышек не следует отравлять свою и чужую жизнь враждой.