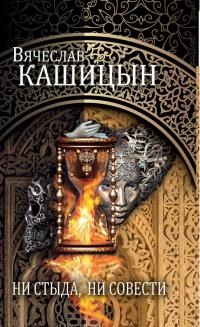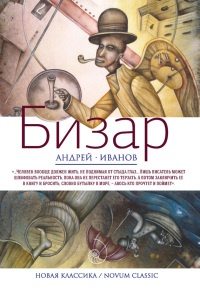Книга Вечный Жид - Сергей Могилевцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Некоторое время сидят молча. Лодовико начинает тихонько покашливать.
Лодовико. Кх, кх…
Гримм (вскидывает голову). Вам нездоровится?
Лодовико. Напротив, я абсолютно здоров!
Гримм (удивленно). Здоровы? Но я же отчетливо слышал, как вы кашляли! Здоровый человек не может так кашлять!
Лодовико (упрямо). И тем не менее, я абсолютно здоров!
Гримм. Зачем же вы тогда кашляли?
Лодовико. Я, собственно говоря, не кашлял, а намекал.
Гримм (удивленно). Намекали на что?
Лодовико. На вашу ответную откровенность.
Гримм. На мою откровенность?
Лодовико. Да, на вашу откровенность, в ответ на мою откровенность. Я вот рассказывал вам о неких струнах своей души, звучащих не так, как бы хотелось. Думаю, что и у вас отыщется в прошлом такая же ненастроенная струна!
Гримм. Вы рассказывали мне о струнах души?
Лодовико. Да, о струнах, или о струне, звучащей не так, как мне хотелось. Короче говоря, о своей девочке я вам уже рассказал, и жду в ответ аналогичный рассказ!
Гримм. Вы хотите, чтобы я рассказал вам о мальчике?
Лодовико. О ком угодно: о мальчике, о девочке, о соседке по парте, или даже о черте с рогами, но только рассказывайте, умоляю вас, и не томите меня якобы непониманием!
Гримм (испуганно). Не поминайте имени черта в этих скорбных пространствах!
Лодовико. Хорошо, не буду, но только уж и вы не томит душу и рассказывайте о ваших кровавых мальчиках!
Гримм. Не сравнивайте меня с собой, извращенец, у меня в жизни не было кровавых мальчиков! Я вообще чист в этом смысле, потому что занимался высоким искусством, всю жизнь сидел в башне из слоновой кости, и никогда не дотрагивался до людей!
Лодовико (удивленно). И до женщин тоже не дотрагивались?
Гримм. Я же сказал, что ни до кого: ни до женщин, ни до мужчин, ни до мальчиков, ни до девочек, ни до, простите, даже древних старух, которые порой не прочь были дотронуться до меня; я был абсолютным девственником, и всю силу неизрасходованной любви вкладывал в литературу!
Лодовико. Вы писали романы?
Гримм. Нет, я был драматургом, чем-то вроде современного Шекспира, и сочинял пьесу за пьесой, не очень, впрочем, надеясь, что их когда-нибудь поставят на сцене.
Лодовико. И что же, вообще никогда не спускались на землю?
Гримм. Со своего блестящего в лучах солнца слоновьего фаллоса? Нет, никогда, я решил поставить над собой эксперимент абсолютной самоотдачи и абсолютной гордыни, и он мне почти что удался!
Лодовико. Вы сказали – «почти»?
Гримм. Да, почти, ибо в мире нет ничего совершенного, и один раз мне все же пришлось покинуть свой блистающие фаллос.
Лодовико. Блистающий, простите, что?
Гримм. Блистающий фаллос, так я в шутку называл свою слоновую башню. Я вынужден был опуститься с нее вниз всего единственный раз, и тем самим навек загубил свою бессмертную душу. Мне кажется, что и мир пошел пеплом как раз из-за меня!
Лодовико (бросается к нему). Ах, как интересно, расскажите, прошу вас, об этом подробнее!
Гримм. Вы на этом настаиваете?
Лодовико (добродушно). Ну что вы, как я могу настаивать, я всего лишь великодушно прошу!
Гримм. А, вот оно что?! ну раз так, то я, пожалуй, расскажу вам все в мельчайших подробностях; в конце концов, надо ведь кому-то узнать все об этой мерзкой истории!
Лодовико. Вы называете ее мерзкой?
Гримм. А разве она не мерзка? Разве то, что я содеял в театре, не достойно всяческого и однозначного порицания?
Лодовико. Не знаю. Вы оказались в театре?
Гримм. Единственный раз в жизни.
Лодовико. Зачем?
Гримм. Я ведь был драматургом, и должен был хоть однажды увидеть, что это такое?!
Лодовико. И вы покинули свою башню из слоновой кости?
Гримм. Свой мерзкий, опухший от гордыне и от вынужденного воздержания, засиженный голубями и воронами, блестящий в лучах полдневного, а также закатного и восходного солнца фаллос? Да, я покинул его!
Лодовико. И спустились на землю?
Гримм. И спустился на землю.
Лодовико. И оказались в театре?
Гримм. И оказался в театре.
Лодовико. И увидели все своими глазами?
Гримм. И увидел все своими глазами.
Лодовико. И не умерли от страха при виде всей этой роскоши, блеска золота на потолке, бархата кулис, глубины лож и партера, блеска публики и украшений на руках и иных частях тела у женщин?
Гримм. Поначалу, конечно, умер от неожиданности и от контраста, ибо сравнить свой засиженный птицами фаллос, свой столб гордыни, свою обитель полубезумного литератора с этим храмом искусств, с этой обителью Талии и Мельпомены было, конечно же, невозможно. Но я все же в некотором роде был драматургом, автором пьес, которые пока хоть и не шли на сцене, но писались именно для театра, и в этом смысле я был там главным действующим лицом.
Лодовико. Были главным действующим лицом?
Гримм. Да, был, несмотря на свою бледность и весь свой полубезумный вид, самым главным человеком среди всех, находившихся в зале, и актеры это моментально почувствовали.
Лодовико. Вы говорите, что актеры моментально почувствовали, что вы для них самый главный?
Гримм. Да, они моментально вычислили меня. Актеры ведь все прекрасно видят со сцены. Их обмануть невозможно, они подмечают малейшее отклонение в поведении зрителей, и, разумеется, они сразу же поняли, кто я такой, и играли только лишь для меня.
Лодовико. Вы в этом уверены?
Гримм. Совершенно. По существу, спектакль, а это была комедия, написанная моим гениальным предшественником лет полтораста назад, превратился в мой собственный творческий вечер. Все мои собственные, уже написанные, но пока что не поставленные на сцене комедии, были неким таинственным образом прочитаны и пропущены через сердце и душу актерами, которые поняли, что я даю им фантастический шанс сыграть эти вещи через несколько лет, когда меня уже не будет, в новом, обновленном театре, реформатором которого я являюсь. Они поняли всю мою высоту, всю мою гениальность, и одновременно все мое одиночество, всю отверженность, которыми я заплатил за совершенно новую, обновленную драматургию. И поэтому, окончив спектакль, они, все до единого, вышли на сцену, и, даже не дожидаясь аплодисментов зрителей, начали аплодировать мне одному.