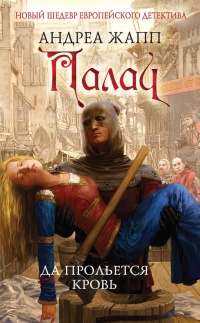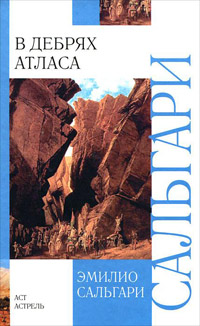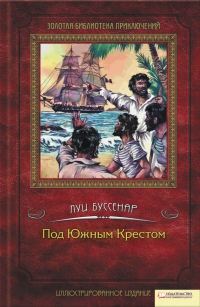Книга Покров заступницы - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«На белом коне, значит, прискакала, — понял наконец-то Гриня, зажмурил глаза от терзающей боли и увидел, словно яркую вспышку, белый шарф, струящийся на ветру, но это короткое видение никак не отозвалось в душе, мелькнуло, будто далекий, ускользающий из памяти сон, вот он был и — нету его, — не погонюсь больше, она для нашей жизни не предназначена…»
Он открыл глаза, увидел склонившуюся над ним Дарью, вспомнил, как она кинулась оттаскивать его от порога, когда по щеке ему прошлась пуля и лицо залила кровь, не побоялась; а когда оттащила, рухнула на него, закрывая своим телом… Дарья была земная, близкая, и он уже не хотел ее отпускать от себя. И не отпустит. Знал уже Гриня, что зашлет в скором времени к ней сватов, и знал, что она ему не откажет, и даже, если дед будет строжиться и ругаться, он все равно упрямо настоит на своем.
Матвей Петрович в это время, окруженный сыновьями и внуками, растерянно молчал и не отвечал на расспросы, только печально озирался вокруг и горбился, совсем по-стариковски. Наконец вздохнул и попросил:
— Придержите меня, ребятки, ноги чего-то не держат, подламываются…
Его подхватили, усадили на сани. Матвей Петрович еще раз вздохнул и снова попросил:
— Приберите тут, чтобы убиенные не валялись. На кладбище похороним. А по начальству — ни-ни, молчать всем, замок на рот повесить. Ясно?
Сыновья и внуки послушно кивали, хотя было им совсем неясно, что здесь случилось. Но с расспросами больше не лезли, поняли, что сейчас им Матвей Петрович ничего не скажет. Когда посчитает нужным, тогда и поведает.
А возле глухой стены избушки стоял на коленях Федор, комкал в руках лохматую шапку, и голос рвался у него, как тонкая ленточка:
— Володя, а Володя, слушай меня…
Но Владимир Гиацинтов не слышал своего верного боевого товарища. Лежал ничком, привалившись щекой к стволу карабина, и кривая струйка крови, пересекая лоб, застывала на морозе.
— Володя, а Володя, слушай меня… — просил, умолял Федор, но отзыва ему не было.
Речицкий сидел здесь же, рядом, привалившись спиной к стене избушки, пытался зажечь спичку, чтобы прикурить папиросу, но рука вздрагивала, и спички одна за другой ломались. Тогда он бросил коробок, вытащил потухшую, но еще шаявшую ветку из кучи сушняка, прикурил от нее, закашлялся и, уронив, сердито затоптал папиросу в снег.
«Как же вы так, Владимир Игнатьевич, — тоскливо думал он, — в самый последний момент и не убереглись… Неправильно, все неправильно… Что я Варваре Александровне скажу, когда она отыщется, как ей в глаза смотреть буду? Неправильно, Владимир Игнатьевич, неправильно…»
Подобрал брошенный коробок со спичками и тяжело, опираясь рукой о стену, встал. Поторопил и Федора:
— Все, хватит, не дозовешься. Вставай…
Тот поднял на него глаза, и Речицкого окатило таким неизбывным горем, что он отвернулся и пошел прочь, сам не зная куда. Наткнулся на Савелия, посмотрел на парня, будто не узнавая, свернул в сторону, двинулся дальше, но Савелий успел ухватить за рукав:
— Старик сказал, чтобы убитых собрали. Я подводу подгоню, помогите…
— Да, да, помочь. — Речицкий послушно вернулся, подождал, пока Савелий подгонит подводу, а когда Гиацинтова уложили на нее, примостился рядом с Федором, на краешке саней, и поднял глаза к небу. Оно стояло над миром без единого облачка — морозное, чистое, и не хотелось верить, что под таким небом люди могут убивать друг друга.
Сумерки застали в дороге. Короткий зимний день быстро догорел неярким закатом, и синие тени густо наползли на санные следы, укрыв их до завтрашнего утра. Уже в темноте тихо пошел снег. И припорошенная этим снегом, далеко за околицей, первой встретила печальный обоз Варя. Быстрым шагом приблизилась к подводе, на которой лежал Гиацинтов, наклонилась над ним и поцеловала последним целованием в холодные губы. Она ни о чем не спрашивала, ни о чем не говорила, даже не плакала, она, словно исполняя только ей ведомый обряд, делала все спокойно и размеренно. Выпрямилась, взяла коня под уздцы и повела его следом за собой. Сначала к истоку улицы, затем, минуя эту улицу, к школе, где в маленькой комнатке горела лампа и желтое пятно светящегося окна было далеко видно.
Две деревянные скамейки, приставленные друг к другу, были застелены широким домотканым половиком. Вот на них и уложили Гиацинтова, скрестив ему на груди тяжелые, охолодалые руки. Варя белым платочком стерла ему кровяной след со лба и закрыла смертельную рану бумажным венчиком.
— Варвара Александровна… — Речицкий осторожно кашлянул в кулак, замолчал, лихорадочно пытаясь подыскать нужные слова, но Варя подняла руку и безвольно опустила ее:
— Не надо, Вячеслав Борисович, ничего не надо. Оставьте нас, будьте добры, мы так долго не виделись.
Речицкий повернулся и почему-то на цыпочках вышел из комнатки; подтолкнул Федора и Савелия, топтавшихся в коридоре, и уже втроем, на крыльце, они долго стояли, прислушиваясь к тишине позднего зимнего вечера. Тишину эту не нарушали даже собаки. Продолжал сыпать снег, и чудилось, что деревня плывет и кружится, накрытая белой кипенью, которая ясно виделась даже и в темноте.
— Пойдемте, — тихо, словно боясь нарушить тишину, произнес Речицкий, — пойдемте, буду вас на ночлег устраивать.
И первым спустился с крыльца.
Они ушли, будто растворились в снегопаде, и, когда ушли, возле крыльца появилась Мария, ведя за собой в поводу белого коня. Поднялась по ступенькам, проскользила невесомо в маленькую комнатку и остановилась, прислонившись к стене.
Варя стояла на коленях перед иконой, которая висела теперь на прежнем своем месте, и молилась:
— Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего…
Голос ее звучал бесстрастно и сухо.
Все, что произошло с ней за последние сутки, каждая минута, наполненная чувством опасности и страдания, укрепили ее душу, и она не оборвалась, как с обрыва, в черное горе, рухнувшее так внезапно. Варя ушла в ночь с Марией одним человеком, а вернулась — совсем другим. Там, под невидимым, но ощутимым покровом почувствовала она присутствие незнаемой ей прежде силы, которая, ясно понимала Варя, всегда будет поддерживать и не оставит в унынии в самый тяжелый час. Почувствовала она ее сразу же, как только оказались они с Марией на большой и ровной поляне, которую окружали по краям высокие сосны. Они взметывались острыми макушками прямо в небо и росли так плотно друг к другу, что казалось издали — плотная стена ограждает это место от всех напастей и зол. Тихий ровный свет, несмотря на глухую ночь, струился над поляной, освещая невысокий бугорок, выступавший из снега и покрытый зеленой травой, такой свежей и яркой, будто она только что выскочила из земли, перепутав зиму с ранней весной.
Возле этого бугорка Мария остановилась. Выпустила повод из рук, и конь послушно замер, низко опустив голову. Мария помогла Варе спуститься на землю, усадила ее на траву и сама присела рядом, старательно оправляя на коленях длинное платье. Долго молчала, устремив неподвижный взгляд куда-то далеко-далеко — за поляну, за сосны, в видимое только ей пространство. И говорить она начала медленно, неторопливо, словно возвращалась из далекой дали. Варя слушала ее, прижимая к груди икону, и старалась ни одного слова не упустить, потому что безоговорочно и согласно понимала: каждое слово, сказанное сейчас Марией, определяет ее будущие дни и годы надолго, может быть, навсегда.