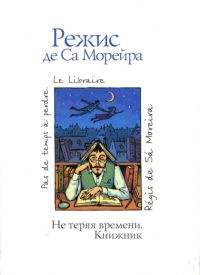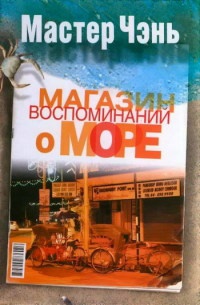Книга Биоген - Давид Ланди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ждем.
Секунда… вторая… третья… четвертая… пятая… шестая… седьмая…
Вдруг вижу – начала гаснуть. Подернулась инеем высокомерия. Но я знаю – струсила. Моя взяла.
– Понятно… – говорит она. – Ну, ничего, это мы вылечим!
Чувствую тревожную гордость от легкости победы. Когти возвращаются в пазлы пальцев, сверкнув на прощание титановыми наконечниками. Проксимальные валики защелкиваются, выдвигая на прежнее место роговые пластины ногтей.
Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш…
Ноги расслабляются, втягивая корни и снимая напряжение с планеты. Стою…
– По ночам писаешься?
Молчу.
– Молчание означает – да!
Безразличен.
– Так, может, ты еще и какаешься? – произносит она, окатив меня ледяными струями раздраженного взгляда.
Ее капли стекают по моему лицу, покрываясь коркой ледяного презрения. Чтобы сдержать озноб тела, складываю руки на груди и, подняв подбородок вверх, дерзко смотрю ей в глаза – Карбышев![460]
– Значит, какаешься, – делает, вывод медсестра. – Выносить какашки будешь сам! Понял?
Смеюсь молча. Беззвучно. Разве осилить – такую – восьмилетнему мальчику? Пусть катится колбаской по малой Спасской – сама!..
Но она стоит, требуя ответа, и накаляет приступ собственного ожидания так, что склера и роговицы моих глаз запотевают от простирающегося из нее духа. Призрак в белом халате маячит в клубах зловония, то растворяясь в образах происходящих перемен, то экспонируясь в видимое излучение собственной галлюцинацией миража. Больница пропитана ее запахом. Стены хотят откашляться но, боясь рассыпаться, терпят смрад внутренностей строения, впитывая свежий воздух через крохотные поры форточек.
– Я не слышу ответа на мой вопрос! Ты меня понял?! – надрывается медсестра.
Это крик поражения. Крик досады. Проиграла… Отражаясь в моих глазах, видит свою смехотворность и бесится от этого еще больше.
– Не хочешь разговаривать? Так и запишем: глухонемой! А раз глухонемой, положим тебя в палату с глухонемыми!
Сарказмирую мысленно: будем играть в города…
– И запомни, что твое выздоровление зависит как раз от того, как скоро ты научишься говорить! – подытоживает врач.
От прозвеневшего слова «выздоровление» больница выгибается крышей в небо и, провалив спазм отвращения, принимает прежнюю форму.
Анализирую: две недели, я потерплю…
– Мать заберет тебя отсюда, если это разрешит сделать доктор Алевтина Адриановна! А доктор разрешит это сделать только после твоего полного выздоровления. Пока же я вижу, что ты болен, и болен очень серьезно!
Киваю – говори-говори. Мама сказала – мама сделает, потому что знает – терпеть не буду.
– На, одевай! – кидает больничную робу. – Это твоя койка. Запомнил?
Молчу.
– Геееррасим! – бросает с досадой медсестра и эвакуирует свое тело с поля боя.
С прогулки возвращаются ребята. Первым подходит белобрысый пацан:
– Новенький?
– Угу.
– Как зовут?
– Давид. А тебя как?
– Лешка. Тебе сколько лет?
– Восемь. А тебе?
– Мне десять. Ты с медсестрой лучше не спорь! Она у нас того, – крутит пальцем у виска, – психанутая!
Я показушно отмахиваюсь:
– Кроме мамы, я вообще никого никогда не слушал и слушаться не собираюсь.
Лешка информирует:
– Эта шиза может накачать тебя сульфозином[461]и сделать жесткое пеленание. Тогда ты будешь слушаться даже глухонемых!
Все смеются. Пропустив мимо ушей угрозы, я заливаюсь вместе с лучами солнца, пробивающимися в нашу палату сквозь стальные решетки правосудия.
Лешка:
– А за что тебя положили?
– Не знаю. За школу, наверное.
– Голову пробил учителю?
Я смотрю на него, стараясь понять, шутит он или говорит всерьез. Но лицо мальчика не выдает никакого подвоха. Понимаю – есть и такие. Отвечаю:
– Да нет. Просто не учился и в футбол играл.
– За это не кладут.
Вспыхиваю:
– Я совсем не учился!
– А что же ты делал?
– Приходил, садился за парту и рисовал на рубашке впереди сидящего одноклассника. Он жаловался учительнице, и та либо выгоняла меня из класса, либо ставила в угол рядом с доской. Если меня ставили в угол, я строил рожи и делал вот так, – показываю Лешке, как строил рожи, и тот начинает хохотать. Вместе с ним посмеивается подросток, лежащий в углу палаты.
Поймав волну вдохновения, я продолжаю дурачиться. Теперь уже вслед за подростком гогочет его сосед. Вскоре к ним подключается дебиловатый паренек с отвислой губой и телом орангутанга. Он выказывает свое возбуждение резкими гортанными звуками. При этом Дебил почему-то смотрит не на меня, а на подростка. Он хлопает руками по кровати, раскачивается из стороны в сторону и мычит. Я передразниваю его. Все ржут.
– А еще я делал так!
Засунув ладонь под мышку и резко прижав руку к туловищу, я издаю характерный звук и одновременно со звуком приседаю на корточки.
Рядом с Дебилом на кровать садится мальчик с печальным лицом Пьеро и молча следит за моей клоунадой. Закончив выступление, я продолжаю рассказывать историю своей болезни:
– В общем, весь класс смотрел только в мою сторону, и в конце концов меня все равно выгоняли.
Лешка интересуется:
– И что, ты шел домой?
– Не-а! В соседнем дворе есть футбольная площадка. Вот туда я и шел. Если на площадке никого не оказывалось, я отправлялся кататься на лифте. У нас рядом со школой стоит новый дом, и в каждом подъезде есть лифт!
Обращаюсь к Лешке:
– Ты катался на лифте?
– Два раза.
Продолжаю с гордостью:
– Иногда я лазал на крышу и гулял там, наблюдая за людьми с высоты десятого этажа.
Интересуюсь у Леши: