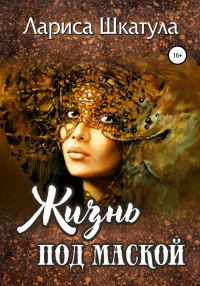Книга Княжна-цыганка - Анастасия Туманова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да вы с ума, што ль, посходили, скаженные?! Орут как бешеные, ухи все от вас звенят! Уймите дитев, ишь чего вздумали! Кто ей чего сделает, артистке вашей?! Наше дело служивое, велено доставить! И все! Хватит верещать, не то ривольверт, ей-богу, выну!
– На чеинэ[59], чаялэ, – снова словно со стороны услышала Нина собственный голос. – Ромалэ, авэла…[60]Миша…
– Что, пхэнори? – отозвался побледневший Скворечико.
– Ради бога, дети… Девочки мои… У них теперь никого нет…
– Не беспокойся даже… Нинка! – Мишка заглянул ей в лицо. – Нинка, но за что? Твой чекист ведь сам сказал, что… что тебя не подозревают даже…
– Не знаю. Право слово, не знаю.
Нина сняла с вешалки пальто, и Мишка машинально подержал ей его, помогая надеть. Перепуганная Танька сунула платок. Заплаканные девочки обхватили мать намертво, прижимаясь к ней с двух сторон, как испуганные зверьки, и Нина из последних сил старалась говорить ровно и спокойно:
– Ну-ну… глупенькие какие. Устроили вой вселенский, а зачем? Я скоро вернусь, слушайтесь тетю Таню. Ложитесь спать, я совсем скоро. Идемте, товарищи, я к вашим услугам.
Один из солдат вышел в сени. Другой, посмотрев в спокойное, холодное лицо Нины с заметным восхищением, неловко открыл для нее дверь, сам шагнул следом. Простучали по двору сапоги, коротко чавкнула грязь у калитки, хлопнула дверца автомобиля, взвизгнули шины. Тишина. Цыгане растерянно смотрели друг на друга.
– Да что ж это такое… – прошептала Танька, обнимая за плечи плачущих девочек. – Мишка… Да ведь делать что-то нужно! Ни за что же ее взяли! Надо завтра вам с отцом к Наганову пойти, ты слов умных много знаешь, этот чекист тебя послушает! Скажете, что Нинка невинная… Да черти б его взяли, зря, что ль, он сюда к ней столько ездил?! Как царя-императора принимали, голоса все сорвали, а он!.. Неужто не поможет?
– Ты потише про царя-то голоси, – посоветовал Мишка, глядя черными злыми глазами через плечо Таньки в темное окно. Его пальцы отбивали на подоконнике бешеную дробь. – Завтра пойдем. Узнаем. Ничего быть не может. Бог даст, ее отпустят, зачем она им?
Танька говорила правду: после того концерта на Лубянке Наганов начал часто появляться в Большом доме. Первый раз это случилось в июле, теплым вечером, и цыгане чуть не умерли со страха, когда на крошечную Живодерку с Садовой завернули два автомобиля. Они проехали вниз по улице, распугав тощих кур, торжественно, как броненосцы, пересекли знаменитую лужу, выбрались на твердый берег и остановились возле ворот Большого дома. Цыгане со всей Живодерки, повысовывавшись в окна, с изумлением наблюдали, как из автомобилей выскакивают люди в фуражках и кожаных куртках. Нина сразу же узнала Наганова, который посмотрел на Большой дом и, встретившись с ней глазами, без улыбки поклонился. Она испуганно ответила. Чекисты поднялись на крыльцо. Открыл им с трудом сохранявший солидный вид дядя Петя.
– Здравствуйте, товарищи, доброго вечера…
– Здравствуйте, а мы к вам! – весело отозвался один из прибывших – молодой, загорелый, в сбитой на затылок фуражке. – Харчей вот привезли… За вчерашний концерт очень благодарны!
Дядя Петя широко открыл дверь – и чекисты вошли в цыганский дом. Двое из них задержались возле машин, доставая фанерные ящики, которые были быстро занесены внутрь. В ящиках оказалась мука, масло, солонина, сахар, крупа и даже мыло. Цыганки взвыли от радости и, пока дядя Петя и другие мужчины, усадив гостей за стол, завели, как умели, разговор о войне и политике, затеребили Нину.
– Все, Нинка, счастливая ты, пропал по тебе этот комиссар! Глянь, глянь, как смотрит! – шептала, вцепившись в Нинин рукав, Танька. – Сразу видать, до тебя одной приехал! А харчей-то сколько навезли, боже мой, я такого три года не видела! Хоть детей сегодня накормим по-людски! Вот что, дуй за шалью да становись «величальную» петь!
– Какую им величальную, боже?..
– Как «какую»? «Цветок душистый»! Да живо пошла у меня! Ух, дура ты дура, родилась дурой и помрешь не поумневши! Кабы на меня этакий начальник повелся, я б каждый день белый хлеб с маслом трескала и всю родню до зарезу откормила!
– Ну и забирай его себе! – рассвирепела Нина, отчетливо понимая, что проклятая Танька права: Наганов, сидя за столом и отвечая на вопросы цыган, не сводил с нее глаз. Это было настолько заметно для всех, что улыбаться начал даже дядя Петя, а цыгане помоложе, вмиг сообразив, зачем к ним понаехало столько красного начальства, похватали гитары и привычно выстроились полукругом. Прибежали солистки в кое-как накинутых шалях, бледную Нину вытолкнули вперед, грянули струны, и она, наспех вспоминая, нет ли в старинной «величальной» контрреволюционных слов, запела:
Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал налитый Максима выпить просит!
Выпьем за Максима, Максима дорогого,
Свет еще не создал храброго такого!
На первых же строках Нина с ужасом вспомнила, что никакого налитого бокала у нее в руках нет и подносить гостям нечего. Но стоило ей подумать об этом, как перед самым носом возник старый серебряный поднос, с которым выходила к гостям еще Нинина бабка, а на нем красовалась хрустальная чарка, до краев наполненная прозрачной жидкостью.
– Паны?..[61]– испуганно спросила она у подавшего ей поднос дяди Пети.
– Дылыны… – яростно прошипел старый гитарист, умудряясь при этом лучезарно улыбаться гостям. – Самогон! Миро! Илэстыр отчиндем![62]
– Наисто, какоро![63]– с облегчением поблагодарила Нина.
Цыгане подхватили величальную, и она медленно пошла прямо к Наганову, с улыбкой протягивая ему поднос. Светлые глаза глядели прямо на нее. Не сводя взгляда с Нины, он принял чарку, отпил.
– До дна, до дна, до дна, на здоровье!!! – завизжали цыганки.
Молодые чекисты захохотали, поддерживая их, Наганов улыбнулся одними губами и допил, не поморщившись, дяди-Петин самогон.
– Спасибо, – коротко сказал он, возвращая чарку на поднос, и Нина с изумлением отметила, что Наганов как будто смущен.
– Хасия гаджо, дыкх![64]– ткнула ее локтем в бок Танька.
«Боже, ну какая же дура… Лучше б закусить ему дала», – устало подумала Нина, но гитары заиграли снова, она опять запела и лишь на середине песни сообразила, что поет свою старую, любимую «Невечернюю». Осознав это, она успокоилась: в хоровой песне ничего старорежимного быть не могло – и голос сразу полился звонче, свободнее, вырываясь в открытые окна старого цыганского дома и тая в сумерках, напоенных запахом вянущих цветов.