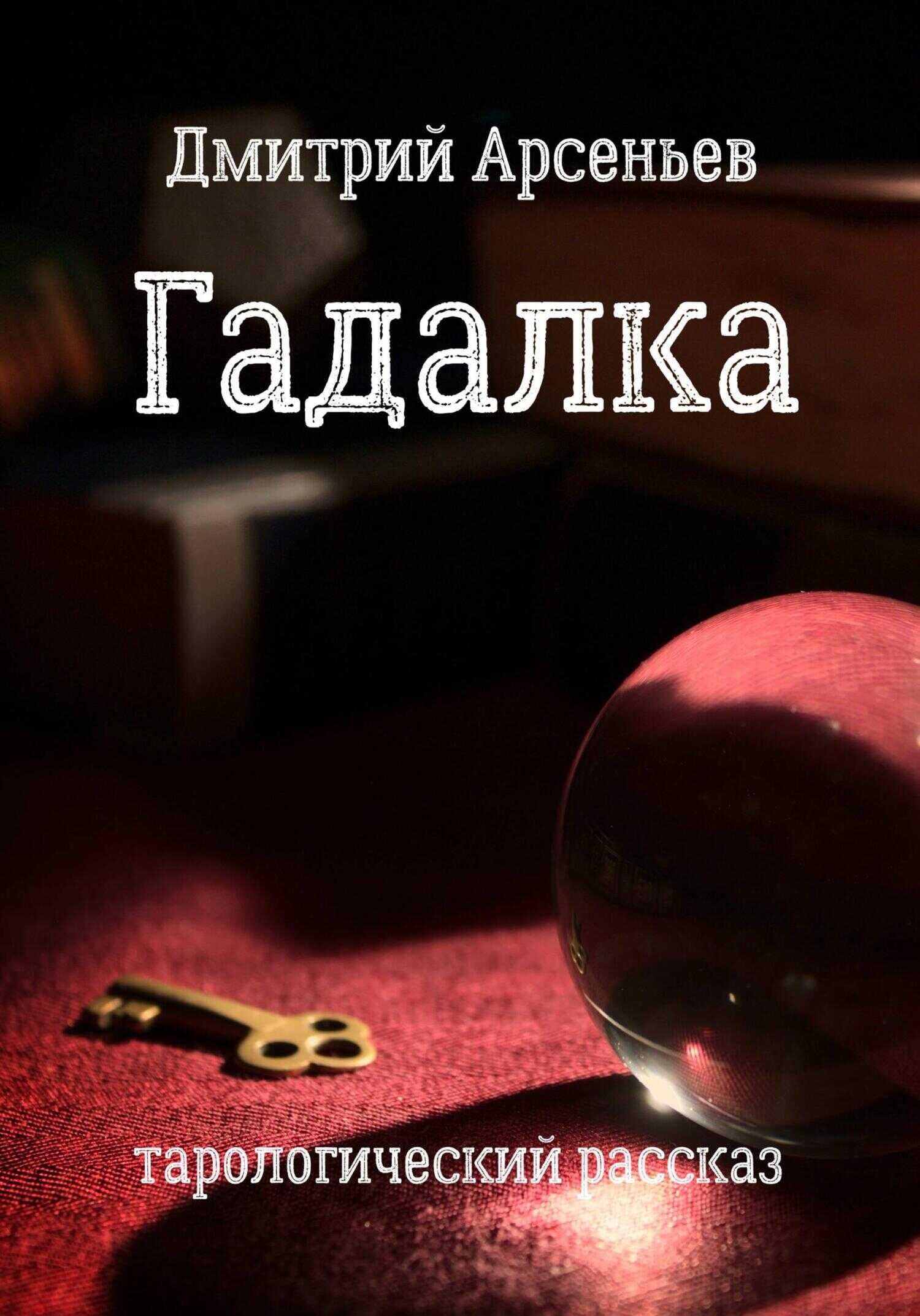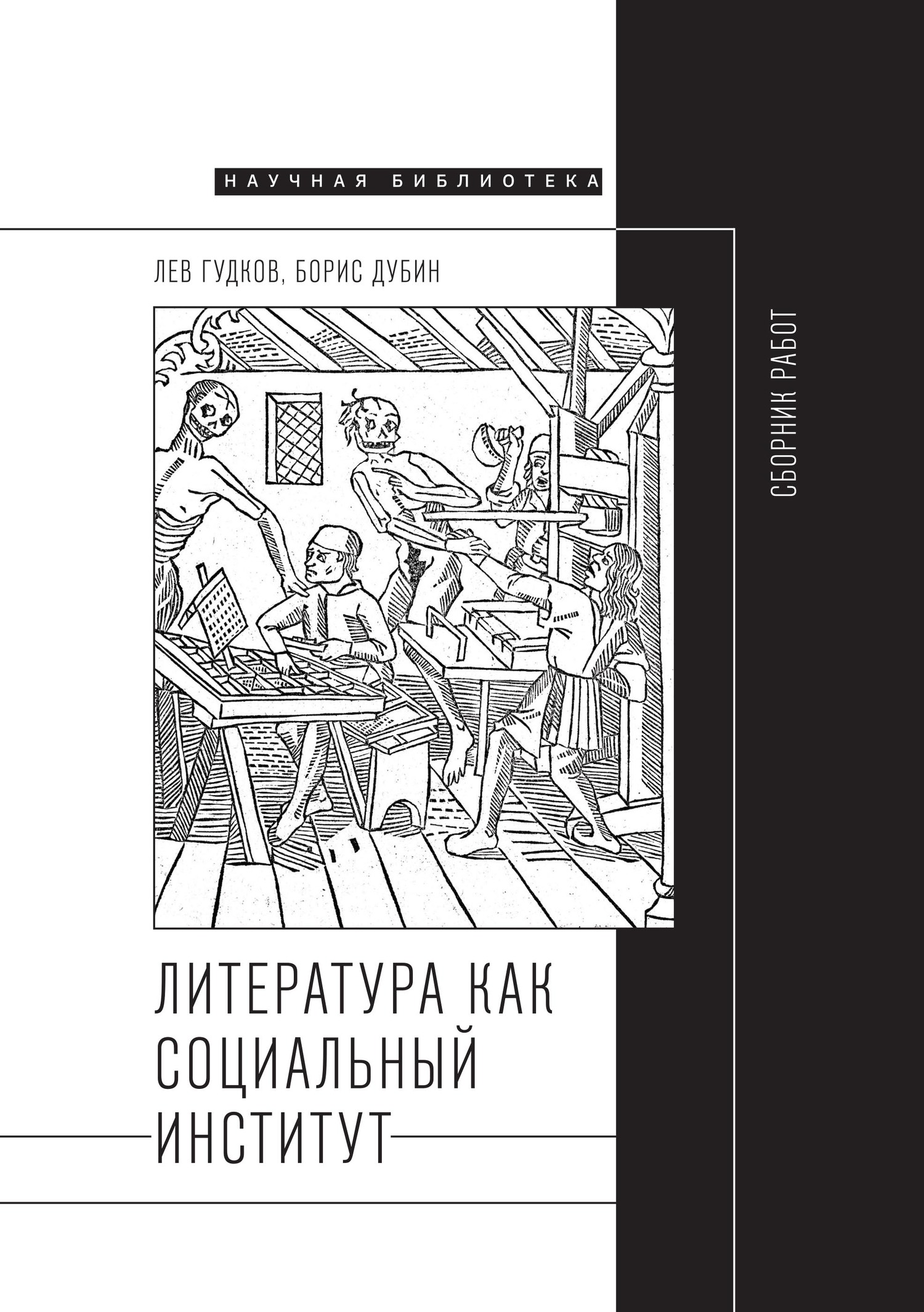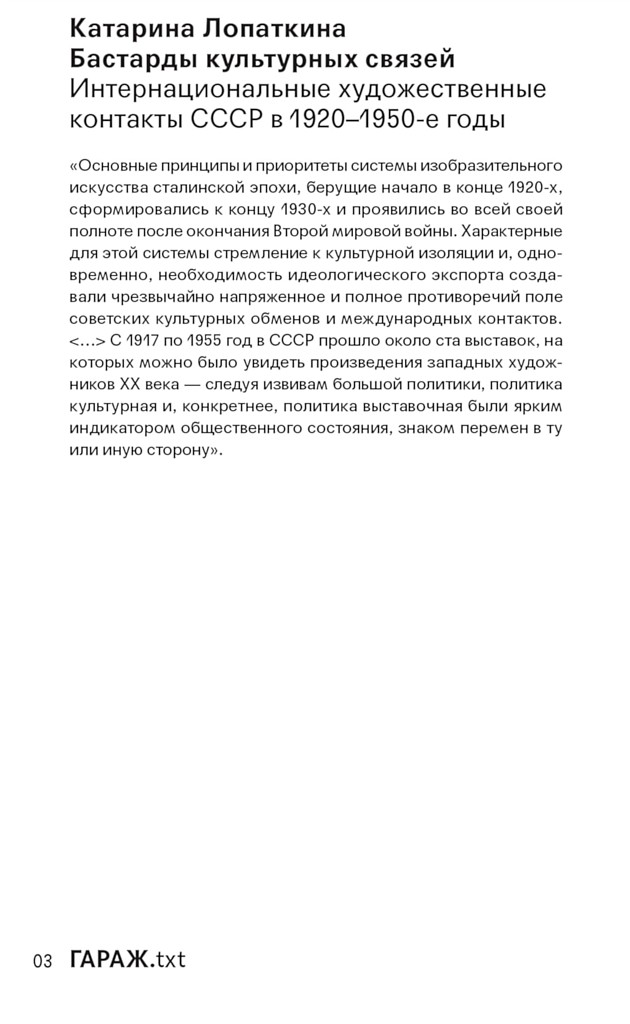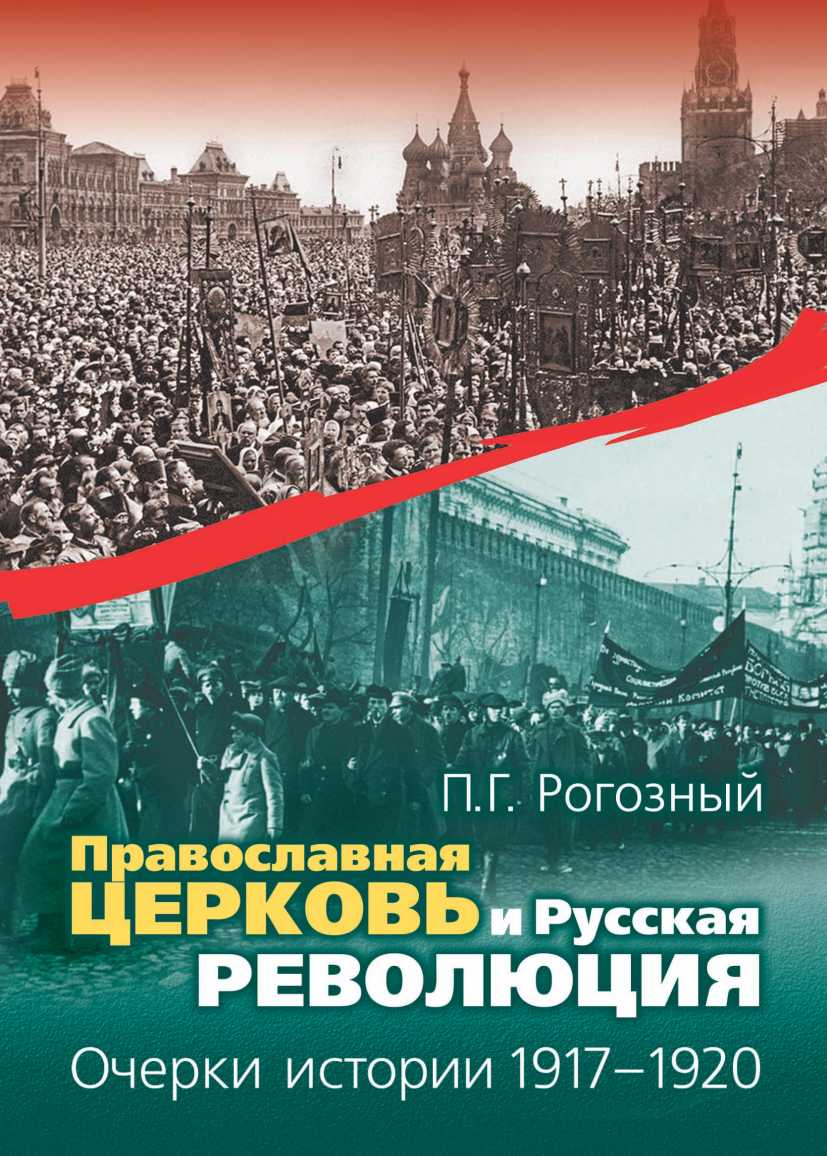Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако в этой смычке с народными аудиториями таилась опасность популизма или даже медиапопулизма, которая снова заставляет этносюрреализм резонировать с советской фактографией[1064]. Становящаяся этнология противопоставлена «любительскому видению туриста или репортера, <…> коррумпированных питторескностью, экзотизмом, субъективным импрессионизмом или бесстыдным вкусом к сенсации»[1065]. Совпадая с литературой факта в отказе от «туристического видения»[1066], французская этнология дистанцируется и от газетного репортажа, что, казалось бы, фактографии ее противопоставляет[1067]. Противоречие легко разрешается указанием Беньямина на то, что в буржуазной публичной сфере «арена безудержного унижения слова – газета – является ареной, на которой готовится его спасение»[1068] в условиях советской прессы и, в частности, в практике Третьякова. Становление этнологии наукой разворачивается уже на фоне заключенного пакта между écrivains reporteurs и крупнотиражной иллюстрированной прессой, которого в Советском Союзе не существовало, отчего репортаж, путевой очерк или биоинтервью и оказываются жанрами столь же массовыми, сколь и научными в глазах лефовцев. История российской и тем более советской прессы опять же оказывается короче и поэтому еще как бы не испорчена духом сенсации, на которой в Третьей республике многие уже сделали себе не только имя, но и состояние. Именно на это автономное поле авангарда во Франции (которому отчасти наследует этнология), не говоря уж о науке, приходится реагировать, противопоставляя себя «четвертой полосе газет»[1069].
Советской фактографии приходится бороться во имя фактов со «старолитературным отношением к вещам» (которое вместе с тем ненаучно), а становящейся французской этнологии – скорее с духом сенсационных фактов, тогда как дух литературы является меньшей проблемой (или вообще не тем, от чего можно избавиться) во французской традиции. Возможно, именно поэтому и происходит отказ от литературного позитивизма (или его преобразование) в пользу более рефлексивной модели письма[1070], где «действительные факты» предстают всегда уже подвергнутыми операции «диалектического монтажа», а вопрос «что?» сменяется или осложняется вопросом «как (записано)?». Здесь этнолог-племянник снова наследует дяде-позитивисту с частичным смещением метода в сторону более эмпирического и полевого исследования[1071]. С одной стороны, по-прежнему только собранные и привезенные факты могут послужить прогрессу (как и основанию) науки, но поскольку теперь это гуманитарные эмпирические науки, то поле оказывается необходимым еще и для более «личного опыта» погружения, проживания-вместе и, наконец, участия, как это уже было открыто Третьяковым в его модели «участвующего наблюдения» оперативного автора. Впрочем, бывший сюрреалист и нынешний этнолог не столько помогает туземцам «строить и жить» («обрастая» сам при этом «второй профессией»), сколько погружается в психологическую совместность, проникается их менталитетом, усваивает их точку зрения – словом, становится частью изучаемого коллектива, скорее исследуя собственные состояния сознания, нежели занимаясь нейтральной записью фактов[1072]. Резервуаром этих не вписывающихся в метод (как минимум канонической версии) позитивной науки практики и опыта и становится так называемая «вторая книга».
При всем сходстве с практикой Третьякова, необходимо подчеркнуть, что такому маскировочному погружению и одновременно самообращенности этнолога – что является условием сбора данных новой эмпирико-гуманитарной науки[1073] – в советской версии противопоставлено скорее открытое взаимодействие. В «Рапорте писателя-колхозника» Третьяков открыто критикует такой подход:
Писатель Фролов <…> предложил другой метод. Писателю, приехав в колхоз, нипочем не нужно говорить, что он писатель. Сейчас же зададут вопрос – «товарищ, вы партийный?» и получится не то.
Памятуя дни хождения в народ (так вот и заявил «хождения в народ»), писатель должен приходить скромненько и одетым попроще. Изучение колхоза по Фролову строится так. Поговоришь с одним мужиком, с другим, пообедаешь с третьим, чаю попьешь, а кое с кем даже выпьешь, через неделю с молодежью закрутишь, тут и девицы – вот и стал своим человеком. <…>
Я успел сказать Фролову только одно, что если бы у нас в пределах сельсовета появился этакий божий человек, плох был бы тот предсельсовета, который бы не принял мер[1074].
Называя такую практику кулацкой и сектантской агитацией, Третьяков настаивает на необходимости эпистемологического и практического равенства между сторонами, исключающей такое этнологическое удвоение – между тем, кто участвует (в том числе перцептивно и аффективно), растворяясь в радикальном опыте, и тем, кто наблюдает (в том числе за своими «состояниями сознания»), методично продолжая исследование, – удвоение, в конечном счете обязанное картезианской традиции[1075]. Вместо такого хитроумного превращения себя самого в инструмент наблюдения[1076], позволяющего быть затронутым на чувственном уровне и при этом извлекать выгоду из этого состояния для научного описания[1077], оперативный очеркист вовлекается, чтобы участвовать в хозяйственной организации практически, он тоже превращает себя в инструмент – только не спекулятивный, а мануально-трудовой. Если французская этнология настаивала на полевом опыте как возможности «ментальной революции» для исследователя, меняющей или размножающей способы (литературного) письма и потому так привлекавшей сюрреалистов, то советская фактография претендовала преобразовать практику писательства на собственно антропологическом уровне – оторвать писателя от письменного стола (который иногда умудряются водрузить даже в походных условиях) и поставить за наборный стан колхозной газеты, дать практическое задание, которое позволит возникнуть у него другой профессии, кроме писательской, – «второй профессии», а не «второй книги».
Симптоматичным в этом отношении оказывается понятие «человеческого документа» (document humain), ведущее родословную от натурализма и, в частности, активно использующееся Золя в «Экспериментальном романе»[1078], а впоследствии наследуемое (этно)сюрреализмом[1079]. Оно не только объединяет натурализм и сюрреализм в единый континуум, но и еще раз подчеркивает их общую ориентацию на эмпирические научные методы и в точности отражает этот пограничный характер практики сбора документальных фактов, снабженной, однако, специфически литературной интонацией или методом письма[1080]. Оба эти случая на границе литературы и науки/техники существуют в общей ситуации напряжения между регистрами документальности и субъективности в межвоенную эпоху, которое по-разному разрешается в различных национальных традициях[1081]. Во французском случае специфика любой циркуляции на границе литературы и науки осложняется тем, что lettres фактически не являются одной из культур, противопоставленной точному знанию (как в британской традиции «двух культур» или немецкой оппозиции «понимания и объяснения»[1082]), но discours à la fois premier et total[1083], а в случае этнологии его даже можно было бы назвать discours social total[1084]. В свою очередь, фон, на котором идет война, или взаимодействие культур в советской версии обязаны не столько дисциплинарному делению знания, сколько политическому фронту между «двумя культурами» (Ленин), одна из которых, как известно, носит название пролетарской (Богданов)[1085].
* * *
Если эстетические посылки Лейриса оказываются связаны с этнологической процедурой