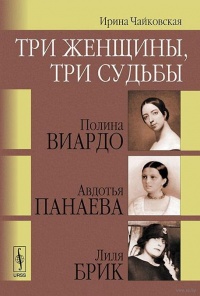Книга Лиля Брик: Её Лиличество на фоне Люциферова века - Алиса Ганиева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так она ему и заявила. Маяковский, по ее словам, оправдывался, успокаивал: «…на мое огорчение огорчился еще больше меня, уверял, что это пустяки, “копеек на тридцать лирической мелочи”, и что он пишет сейчас стихи мне в виде письма, что это будет второе лирическое вступление в поэму о пятилетке (первое — “Во весь голос”), что обижаться я на него не вправе, что “мы с тобой в лучшем случае в расчете, что не нужно перечислять взаимные боли и обиды”. Что мне это невыгодно, что я еще останусь перед ним в большом долгу»[334]. Но Брик ходила по потолку от бешенства. Через несколько дней она в панике допрашивает сестру:
«Элик! Напиши мне, пожалуйста, что это за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которой он пишет стихи (!!) и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова merde (мерзость, дерьмо. — А. Г.)! Что-то не верю я в невинность русской шляпницы в Париже! Никому не говори, что я тебя об этом спрашиваю, и напиши обо всём подробно. Моих писем никто не читает»[335].
Лиле, которой советская молва приписывала афоризм «Знакомиться лучше в постели», и вправду с трудом верилось, что молодая, высокая (метр семьдесят восемь) шляпница, одетая в платье от Шанель и окруженная восхищенной парижской толпой, могла оставаться девственницей до двадцати двух с половиной лет.
Впрочем, история здесь не очень ясная. Сама Яковлева в поздние годы не раз повторяла, что отношения их с Маяковским были чисто платонические (Зоя Богуславская, бравшая у нее интервью, даже озаглавила его броским заголовком «Девушкой можно быть раз в жизни»). Да и дочь Татьяны, Франсин, утверждала потом, что взгляды у ее мамы были пуританские, что она решила хранить невинность до свадьбы и что Маяковскому с этим пришлось смириться. Зная максималистский нрав Маяковского, учитывая его бешеную влюбленность тех дней, в такое верится слабо. Да и не мог он врать своей Лиличке: если хвастал ей, что девушка отдалась, — значит, отдалась. И, похоже, верил, что отдалась ему первому. Яковлева в те дни писала своей матери, что Маяковский — первый мужчина, сумевший оставить след в ее душе. Правда, рядом она сообщала, что у нее масса драм, что если бы она захотела быть с Маяковским, то что же стало бы с «Илей» (внуком и полным тезкой нобелевского лауреата по физиологии Ильи Мечникова) и еще с двумя? «Заколдованный круг», — сокрушалась (искренне?) Татьяна, перечисляя своих воздыхателей.
Да, были и такие, кто сомневался в первопроходстве поэта. Эльза, чувствовавшая себя виноватой во всей этой истории, тут же поделилась с Лилей дурно пахнущей сплетней, услышанной от Пьера Симона, брата врача: мол, Яковлева и до, и во время отношений с Маяковским жила с одним из своих ухажеров — виконтом дю Плесси, с которым даже снимала дом в Фонтенбло. Но, учитывая порядочность и благонравность Татьяниной семьи, когда каждый шаг был под надзором у бабушки и для каждого свидания нужно было что-то придумывать и отпрашиваться, дом в Фонтенбло кажется фантастической нелепицей.
Существовала еще одна версия. Татьяна сама признавалась в зрелые годы, что уступила Маяковскому — но только во второй его приезд, весной 1929-го. Дескать, он был азартным охотником, любил побеждать, завоевывать и, переспи они сразу, возможно, и не вернулся бы.
Как бы то ни было, трон Лили вдруг зашатался. «Письмо Татьяне Яковлевой» появилось в печати лишь через 28 лет, но «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» со словами про «выстывший мотор» было опубликовано сразу же, в журнале «Молодая гвардия», возглавляемом этим самым товарищем Костровым. РАПП, конечно, взбеленилась — поэт-коммунист не имеет права окунаться в разлагающую лирику!
Но Лиля просто бушевала. Недаром потом в писательских кругах пойдет столько слухов про ее попытки замолчать имя новой парижской знакомой Маяковского — Брик должна была оставаться его единственной музой. Шептались даже, что когда в Москву впервые со времени эмиграции приехал Роман Якобсон, Лиля примчалась в аэропорт и, прорываясь к трапу чуть ли не через ограду, кричала ему: «Ромик, только молчи!» — якобы боясь, что «Ромик» тут же, у трапа, начнет болтать о неизвестных стихах Маяковского, посвященных не ей. (Кстати, именно Якобсону Яковлева передала стихи «Письмо Татьяне Яковлевой» и адресованные ей письма поэта. Он опубликовал и то и другое в русском эмигрантском сборнике в США.) Так это было или нет, но отношение к собственной краеугольности в поэтическом здании под названием «Маяковский» у Лили было ревностным.
«В этом и в других разговорах мы несколько раз возвращались к обсуждению лирики Маяковского, — рассказывал муж племянницы Катаняна В. Г. Степанов, знавший Лилю в старости. — “А что из нее вам больше нравится? ‘Про это’”? — спросила она. Чувствовалось, что Брик хотела именно этого подтверждения. Я ее понимал. Поэтому и сказал: “Про это”. Но больше всего “Облако в штанах”. Зачем я ее огорчал?! Может быть, действовала российская исповедальность, навеянная нашей классической литературой? Или нежелательность противоречий: ведь я уже сказал, что меня потрясла именно эта поэма. Однако Лиля Юрьевна не огорчилась, а легко произнесла: “Ее он мне посвятил”. Не удержавшись, я воскликнул: “А разве не Марии?!” (В 1914 году платоническое чувство к художнице-харьковчанке Марии Денисовой вдохновило Маяковского на «Облако в штанах». — А. Г.) Брик сказала: “И Марии тоже. Володя мне все свои крупные произведения посвящал”»[336]. Лиля постоянно это подчеркивала. Это было важно.
Но теперь Маяковский нес над толпами имя Татьяны, «как праздничный флаг» — так он писал ей накануне Нового, 1929 года. Он снова очень много работал, параллельно у Мейерхольда шли репетиции «Клопа». От стресса и напряжения у поэта опухли и покраснели глаза, доктор даже выписал ему очки, «Работать можно и в очках, а глаза мне всё равно до тебя не нужны, потому что кроме как на тебя мне смотреть не на кого, — признаётся он (знала бы тогда Лиля!). — Если мы от всех этих делов повалимся (на разнесчастный случай), ты приедешь ко мне. Да? Да? Ты не парижачка. Ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить и все тебе обязаны радоваться»[337].
Еще через пять дней Маяковский снова склоняет «Таника» к фатальному шагу — переезду в Россию:
«Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная. Милый! Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и пособирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам (во множественном числе — уж не к Лилечке ли с Осипом хотел ее подселить? — А. Г.), к себе в Москву. Давай об этом думать, а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку — проверкой. Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шаганье по телеграфным столбам? 31-го в 12 ночи (и с коррективом на разницу времен) я совсем промок тоской. Ласковый товарищ чокался за тебя и даже Лиля Юрьевна на меня слегка накричала — “если, говорит, ты настолько грустишь, чего же не бросаешься к ней сейчас же?” Ну что ж… и брошусь!»[338]